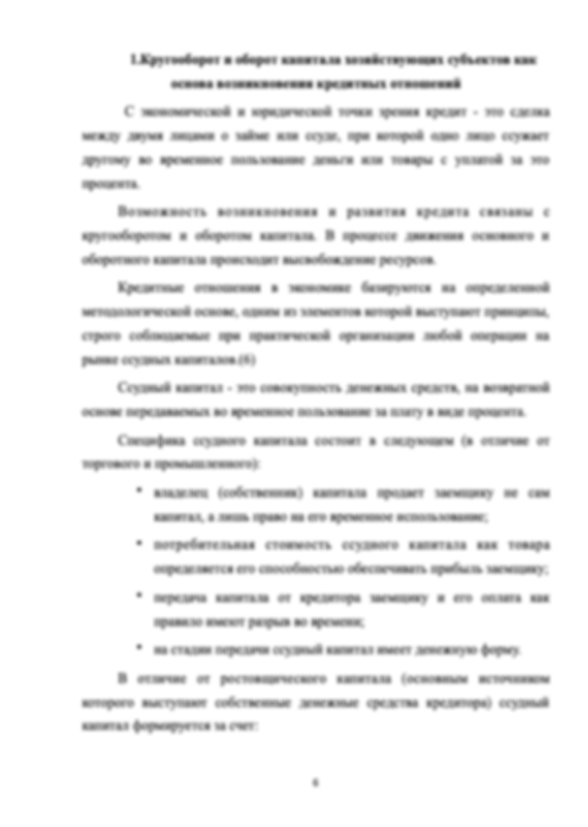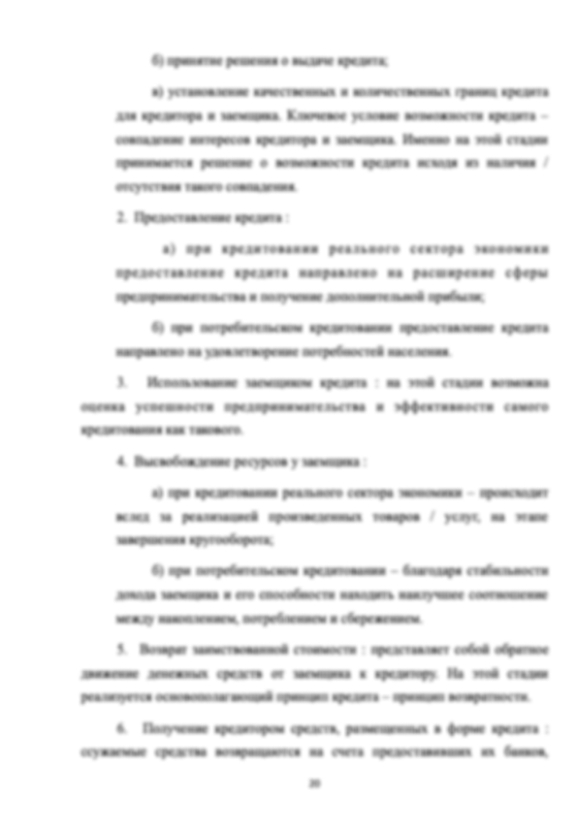Благодарю за контрольную по философии, качественно и раньше срока, приятно было с Вами поработать)
Информация о работе
Подробнее о работе

Практическая и контрольная работа по философии (В-1)
- 15 страниц
- 2016 год
- 3943 просмотра
- 1 покупка
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
РАБОТА ПО СТАТЬЯМ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАДАНИЙ
Практическое задание должно быть представлено в электронном
виде как документ Microsoft Word. Шрифт –– Times New Roman, 14
кегль; межстрочный интервал –– 1,5.
Внимательно прочитайте статьи М. Хайдеггера «Отрешенность»
и И. Канта «Метафизика нравов», раскройте смысл их ключевых
идей в аннотациях.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать за
практическое задание, – 22. Работа считается зачтенной при условии,
что вы набрали 14 и более баллов.
ПЛАН АННОТАЦИЙ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО АНАЛИЗА
Аннотация статьи представляет собой работу, состоящую из 2-х
этапов.
Первый этап: составление блок-схемы, отражающей общую
концепцию статьи (основная идея автора, аргументы, раскрывающие
основную идею, вывод автора, ключевые слова статьи, характеризующие
специфику понятийного аппарата автора (10 единиц)). Второй этап:
заполнение пустых ячеек таблицы (в правом столбце) материалом статей в
соответствии с формулировками и вопросами, предложенными в левом
столбце таблицы.
ВНИМАНИЕ! Оформляйте работы согласно требованиям: в виде
блок-схемы и таблицы по предложенному шаблону! Невыполнение этих
требований снизит вашу оценку!
ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Сумма баллов от 14 до 22:
22 б. – дан анализ всех статей; представлена блок-схема; заполнена
таблица-вопросник во всем объеме;
18 б.– дан анализ всех статей; представлена блок-схема; таблица-
вопросник заполнена в недостаточном объеме;
14 б. – дан анализ всех статей; представлена блок-схема; таблица-
вопросник заполнена в недостаточном объеме, слишком кратко и поверхностно;
менее 14 б. – дан анализ не всех статей; отсутствует блок-схема;
таблица-вопросник заполнена в недостаточном объеме, небрежно и
поверхностно.
1. БЛОК-СХЕМА ДЛЯ АНАЛИЗА СТАТЕЙ
Блок-схема представляет собой первый этап письменного анализа
статей в виде краткого освещения наиболее значимых авторских идей
схематично отражающей концепцию работы.
№ статьи, фамилия автора, название работы
Основная идея автора
Аргумент 1 Аргумент 2 Аргумент n
Вывод автора
Ключевые слова статьи (10 единиц)
2. ТАБЛИЦЫ-ВОПРОСНИКИ
К РАЗДЕЛУ «АНАЛИЗ СТАТЕЙ»
Заполнение таблицы (в правом столбце) представляет собой «нарезку»
смысловых частей текста статьи соответственно ключевым
формулировкам в левом столбце. Задача: расширить, «распаковать»,
конкретизировать смысл ключевых формулировок и вопросов, можно
добавлять свои размышления (но обязательно в формат таблицы).
1. Хайдеггер М. Отрешенность // Разговор на проселочной дороге. М.: 1991
1. «бездумность» современности как
бегство от мышления;
2. вычисляющее мышление и
осмысляющее мышление;
3. «укорененность» человека и утрата
укорененности;
4. технизированность мира и
осмысляющее мышление;
5. отрешенность от вещей как не-
бессмысленность, постижение смысла
мира техники;
6. опасность технического прогресса:
особенности авторского понимания.
7. способность сказать технике «да» и
«нет « одновременно».
2. И. Кант. Метафизика нравов (фрагменты работы, ч. 6-8)
1. В чем смысл названия работы И. Канта
«Метафизика нравов» с точки зрения
учения о добродетели?
2. Обоснуйте мысль философа о том, что
предназначение человека заключается в
стремлении преодолеть животное
начало и взрастить в себе
человеческое?
3. В чем, по Канту, состоит долг человека
перед самим собой?
4. Раскройте смысл формулировки этого
долга: «собственное
самосовершенствование и счастье
другого».
5. Каковы обязанности добродетели по
отношению к другим?
6. Почему с точки зрения Канта смысл
формулировок: «собственное
самосовершенствование» и «счастье
другого» недопустимо менять местами?
7. Почему, согласно Канту, не допустимо
лишать себя жизни именно с этической
точки зрения? Как здесь выражается
нравственный долг человека перед
другими, но главное, перед самим
собой?
ТЕКСТЫ СТАТЕЙ
Текст 1
М. Хайдеггер.
ОТРЕШЕННОСТЬ
Перевод с издания: Heidegger Martin. Gelassenheit. Gunther Neske. Pfullingen, 1959. S. 11 — 28[1]. A. G.
Солодовникова, перевод, 1991.
Первое, что я могу сказать своему родному городу, — это слова
признательности. Я благодарю мою родину за все, что она дала мне в
дальний путь. Что это за приданое, я пытался объяснить на страницах статьи
“Проселочная дорога” в юбилейном сборнике, появившемся к столетию со
дня смерти Конрадина Крейцера[2]. Я благодарю господина бургомистра
Шюле за его сердечное приветствие и за ту честь, которую мне оказали,
поручив выступить с памятной речью на сегодняшнем торжестве.
Уважаемое собрание!
Дорогие соотечественники!
Мы собрались здесь на торжестве, посвященном нашему земляку,
композитору Конрадину Крейцеру. Чтобы чествовать такого человека —
творческую личность, нужно прежде всего оценить по достоинству его
произведения. А значит, чтобы чествовать музыканта, надо слушать его
музыку.
Сегодня мы услышим произведения Конрадина Крейцера — его песни и
хоры, камерную и оперную музыку. В этих звуках присутствует сам
композитор, так как по-настоящему мастер присутствует лишь в своей
работе. И если это действительно большой мастер, то его личность
полностью исчезнет за его работой.
Певцы и музыканты, участвующие в сегодняшнем празднестве, будут
гарантами того, что произведения Конрадина Крейцера прозвучат сегодня
для нас.
Но будет ли это торжество в то же время и памятным? Ведь торжество в
память кого-либо означает, что мы думаем[3]. Так о чем же мы должны
думать и говорить на чествовании памяти композитора? Разве музыка не
отличается тем, что она может “говорить” просто звучанием своих звуков, и
разве ей нужен обычный язык — язык слов? Ведь так обычно считают. И все
же остается вопрос: смогут ли музыка и пение превратить торжество в
памятное, в такое, на котором мы думаем? Вероятно, не смогут. Поэтому
памятная речь и была включена в программу праздника. Она специально
должна помочь нам думать о чествуемом человеке и его произведениях.
Такие воспоминания оживают, когда еще раз пересказывают историю жизни
Конрадина Крейцера, перечисляют и описывают его произведения. Слушая
такое повествование, мы испытываем радость и печаль, узнаем много
поучительного и полезного. Но на самом деле мы лишь развлекаемся.
Слушая такой рассказ, вовсе и не обязательно думать, не требуется
размышлять о том, что относится к каждому из нас в отдельности
непосредственно и постоянно в его собственном бытии. Таким образом, даже
памятная речь не может быть залогом того, что мы будем думать на
памятном торжестве.
Не надо дурачить себя. Все мы, включая и тех, кто думает по долгу службы,
достаточно часто бедны мыслью, мы слишком легко становимся
бездумными. Бездумность — зловещий гость, которого встретишь повсюду в
сегодняшнем мире, поскольку сегодня познание всего и вся доступно так
быстро и дешево, что в следующее мгновение, полученное так же поспешно,
и забывается. Таким образом, одно собрание сменяется другим. Памятные
празднества становятся все беднее и беднее мыслью, так что теперь
памятные собрания и бездумность уже неразлучны.
Но даже когда мы бездумны, мы не теряем нашей способности думать. Мы
ее, безусловно, используем, но, конечно, особым образом: в бездумности мы
оставляем способность мыслить невозделанной, под паром. Но только то
может лежать под паром, что способно стать почвой для роста, например
пашня. Автострада, на которой ничего не растет, никогда не может лежать
под паром. Как оглохнуть мы можем только потому, что обладаем слухом, а
состариться — только потому, что были молоды, точно так же мы можем
стать бедными мыслями и даже бездумными лишь потому, что в самой
основе своего бытия человек обладает способностью к мышлению, “духу и
разуму”, и мышлению предназначен и уготован. Мы можем лишиться или,
как говорят, отделаться только от того, чем мы обладаем, знаем ли мы об
обладаемом или нет.
Усиливающаяся бездумность проистекает из болезни, подтачивающей самую
сердцевину современного человека. Сегодняшний человек спасается
бегством от мышления. Это бегство от мышления и есть основа для
бездумности. Это такое бегство, что человек его и видеть не хочет и не
признается в нем себе самому. Сегодняшний человек будет напрочь отрицать
это бегство от мышления. Он будет утверждать обратное. Он скажет — имея
на это полное право, что никогда еще не было таких далеко идущих планов,
такого количества исследований в самых разных областях, проводимых так
страстно, как сегодня. Несомненно, так тратиться на хитроумие и
придумывание по-своему очень полезно и выгодно. Без такого мышления не
обойтись. Но при этом остается так же верно и то, что это лишь частный вид
мышления.
Его специфичность состоит в том, что когда мы планируем, исследуем,
налаживаем производство, мы всегда считаемся с данными условиями. Мы
берем их в расчет, исходя из определенной цели. Мы заранее рассчитываем
на определенные результаты. Это рассчитывание является отличительной
чертой мышления, которое планирует и исследует. Такое мышление будет
калькуляцией даже тогда, когда оно не оперирует цифрами и не пользуется
калькулятором или компьютером. Рассчитывающее мышление калькулирует.
Оно беспрерывно калькулирует новые, все более многообещающие и
выгодные возможности. Вычисляющее мышление “загоняет” одну
возможность за другой. Оно не может успокоиться и одуматься, прийти в
себя. Вычисляющее мышление — это не осмысляющее мышление, оно не
способно подумать о смысле, царящем во всем, что есть.
Итак, есть два вида мышления, причем существование каждого из них
оправдано и необходимо для определенных целей: вычисляющее мышление
и осмысляющее раздумье[4].
Именно это осмысляющее раздумье мы и имеем в виду, когда говорим, что
сегодняшний человек спасается бегством от мышления. Все же можно
возразить: само по себе осмысляющее размышление парит над
действительностью, оно потеряло почву. Оно не поможет нам справиться с
повседневными делами. Оно бесполезно в практической жизни.
И, наконец, говорят, что чистое размышление, стойкое осмысление “выше”
обычного рассудка. В последней отговорке верно только то, что
осмысляющее мышление само не получается, впрочем как и вычисляющее.
Для осмысляющего мышления подчас необходимы высшие усилия. Оно
требует более длительного упражнения. Для него нужна еще более чуткая
забота, чем для любого другого настоящего ремесла. А еще оно должно
уметь ждать, как ждет крестьянин, взойдет ли семя, даст ли урожай.
И все же каждый может выйти в путь размышления по-своему и в своих
пределах. Почему? Потому что человек — это мыслящее, т. е. осмысляющее
существо[5]. Чтобы размышлять, нам отнюдь не требуется “перепрыгнуть
через себя”. Достаточно остановиться на близлежащем и подумать о самом
близком: о том, что касается каждого из нас — здесь и сейчас, здесь, на этом
клочке родной земли, сейчас — в настоящий час мировой истории.
На какие мысли наведет нас этот праздник, конечно, в том случае, если мы
готовы одуматься? Мы увидим, что произведение искусства созрело на почве
своей родины. Если мы задумаемся над этим простым фактом, то мы
обязательно подумаем и о том, что за последние два столетия Швабия
породила великих поэтов и мыслителей. Если мы будем размышлять далее,
то окажется, что Центральная Германия такая же земля, ровно как и
Восточная Пруссия, Силезия и Богемия.
Мы задумаемся и спросим: а может быть, любое настоящее творение
коренится в почве своей родной земли? Иоган Гебел однажды написал: “Мы
растения, которые — хотим ли мы осознать это или нет — должны
корениться в земле, чтобы, поднявшись, цвести в эфире и приносить плоды”
(Werke, ed. Altwegg, III, 314).
Поэт хочет сказать: чтобы труд человека принес действительно радостные и
целебные плоды, человек должен подняться в эфир из глубины своей родной
земли. Эфир здесь означает свободный воздух небес, открытое царство духа.
Мы задумаемся еще сильнее и спросим: а как обстоит сегодня дело с тем, о
чем говорил Иоган Петер Гебел? По-прежнему ли человек тихо обитает
между небом и землей? По-прежнему ли царит на земле осмысляющий дух?
Есть ли еще родина, в почве которой — корни человека, в которой он
укоренен?[6]
Многие немцы лишились своей родины, им пришлось оставить свои города и
села, их изгнали с родной земли. Многие другие, чья родина была спасена,
все же оторвались от нее, попавши в ловушку суеты больших городов, им
пришлось поселиться в пустыне индустриальных районов. И сейчас они
чужие для своей бывшей родины. А те, кто остался на родине? Часто они еще
более безродны, чем те, кто был изгнан. Час за часом, день за днем они
проводят у телевизора и радиоприемника, прикованные к ним. Раз в неделю
кино уводит их в непривычное, зачастую лишь своей пошлостью,
воображаемое царство, пытающееся заменить мир, но которое не есть мир.
“Иллюстрированная газета” доступна всем. Как и все, с помощью чего
современные средства информации ежечасно стимулируют человека,
наступают на него и гонят его — все, что уже сегодня ближе человеку, чем
пашни вокруг его двора, чем небо над землей, ближе, чем смена ночи днем,
чем обычаи и нравы его села, чем предания его родного мира.
Мы задумаемся еще и спросим: что происходит здесь — как с людьми,
оторванными от родины, так и с теми, кто остался на родной земле? Ответ:
сейчас под угрозой находится сама укорененность [7] сегодняшнего
человека. Более того: потеря корней не вызвана лишь внешними
обстоятельствами и судьбой, она не происходит лишь от небрежности и
поверхностности образа жизни человека. Утрата укорененности исходит из
самого духа века, в котором мы рождены.
Мы задумаемся еще и спросим: если это так, смогут ли еще и впредь человек
и его творения корениться в плодородной почве родины и тянуться к эфиру,
на простор небес и духа? Или же все попадает в тиски планирования и
калькуляций, организации и автоматизации?
Осмысляя то, что нам подсказывает это торжество, мы увидим: нашему веку
грозит утрата корней. И мы спросим: что же на самом деле происходит в
наше время? Чем оно отличается?
Век, который сейчас начинается, недавно был назван атомным веком. Его
самое неотступное знамение — атомная бомба, но это — примета лишь
очевидного, так как сразу же признали, что атомная энергия может быть
использована и в мирных целях. И сегодня физики-ядерщики всего мира
пытаются осуществить мирное использование ее в широких масштабах.
Крупные индустриальные корпорации ведущих стран, Англии в первую
очередь, уже посчитали, что атомная энергия может стать гигантским
бизнесом. В атомной промышленности узрели новое счастье. Атомная
физика не останется в стороне. Она открыто обещает нам это. В июле этого
года на острове Майнау восемнадцать лауреатов Нобелевской премии
объявили в своем обращении дословно следующее: “Наука (т. е. современное
естествознание) — путь к счастью человечества”.
Как обстоит дело с этим утверждением? Возникло ли оно из размышления?
Задумалось ли оно над смыслом атомного века? Нет. Если мы
удовлетворяемся этим утверждением науки, мы остаемся максимально
далеко от осмысления нынешнего века. Почему? Потому что подумать-то мы
и забыли. Потому что мы забыли спросить: благодаря чему современная
техника, основанная на естествознании, способна открывать в природе и
освобождать новые виды энергии?
Это стало возможно благодаря тому, что в течение последних столетий идет
переворот в основных представлениях человек оказался пересаженным в
другую действительность. Эта радикальная революция мировоззрения
произошла в философии Нового времени. Из этого проистекает и
совершенно новое положение человека в мире и по отношению к миру. Мир
теперь представляется объектом, открытым для атак вычисляющей мысли,
атак, перед которыми уже ничто не сможет устоять. Природа стала лишь
гигантской бензоколонкой, источником энергии для современной техники и
промышленности. Это, в принципе техническое, отношение человека к
мировому целому впервые возникло в семнадцатом веке и притом только в
Европе. Оно было долго незнакомо другим континентам. Оно было
совершенно чуждо прошлым векам и судьбам народов.
Сила, скрытая в современной технике, определяет отношение человека к
тому, что есть. Ее господство простирается по всей земле. Человек уже
начинает свое продвижение с земли в мировое пространство. Благодаря
открытию атомной энергии, за какие-нибудь двадцать лет стали известны
такие колоссальные источники энергии, что в обозримом будущем мировые
потребности в энергии любого рода будут удовлетворены навсегда. Скоро
производство энергии, в отличие от добычи угля, нефти, древесины, более не
будет привязано к какой-то определенной стране или континенту. В
обозримом будущем в любом месте земного шара можно будет построить
атомную электростанцию.
Таким образом, теперь основная проблема науки и техники заключается уже
не в том, где достать достаточное количество топлива. Сейчас решающая
проблема звучит так: каким образом мы сможем обуздать и как мы научимся
управлять этими невероятно гигантскими атомными энергиями так, чтобы
гарантировать человечеству, что эти громадные энергии внезапно — даже в
случае отсутствия военных действий — в каком-нибудь месте не вырвутся,
“не удерут” и не уничтожат все?
Если обуздание атомной энергии будет успешным, — а оно будет успешным!
— то в развитии технического мира начнется совершенно новая эра. То, что
нам сейчас известно как техника фильмов и телевидения, транспорта,
особенно воздушного, средств информации, медицинская и пищевая
промышленность, является, вероятно, лишь жалким началом. Грядущие
перевороты трудно предвидеть. Между тем технический прогресс будет идти
вперед все быстрее и быстрее и его ничем нельзя остановить. Во всех сферах
своего бытия человек будет окружен все более плотно силами техники. Эти
силы, которые повсюду ежеминутно требуют к себе человека, привязывают
его к себе, тянут его за собой, осаждают его и навязываются ему под видом
тех или иных технических приспособлений, — эти силы давно уже переросли
нашу волю и способность принимать решения, ибо не человек сотворил их.
Но к новому миру техники принадлежит также и то, что его достижения
самым быстрым образом становятся всем известны и привлекают всеобщий
интерес. Так сегодня все могут прочитать то, что говорится в этой речи о
технике в любом умело издаваемом иллюстрированном журнале, или
услышать эту речь по радио. Но одно дело услышать или прочитать, т. е.
просто узнать что-то, другое дело — осознать, т. е. осмыслить то, что мы
услышали или прочитали.
Этим летом в очередной раз состоялась международная встреча лауреатов
Нобелевской премии 1955 года в Линдау. Американский химик Стэнли
сказал на ней следующее: “Близок час, когда жизнь окажется в руках химика,
который сможет синтезировать, расщеплять и изменять по своему желанию
субстанции жизни”. Мы приняли к сведению это утверждение, мы даже
восхищаемся дерзостью научного поиска, при этом не думая. Мы не
останавливаемся, чтобы подумать, что здесь с помощью технических средств
готовится наступление на жизнь и сущность человека, с которым не
сравнится даже взрыв водородной бомбы. Так как даже если водородная
бомба и не взорвется и жизнь людей на земле сохранится, все равно зловещее
изменение мира неизбежно надвигается вместе с атомным веком.
Страшно на самом деле не то, что мир становится полностью
технизированным. Гораздо более жутким является то, что человек не
подготовлен к этому изменению мира, что мы еще не способны встретить
осмысляющее, мысля то, что в сущности лишь начинается в этом веке атома.
Затормозить исторический ход атомного века или же направить его не может
ни один человек, ни одна группа людей, ни одна комиссия выдающихся
государственных деятелей, ученых и инженеров, ни одна конференция
ведущих деятелей промышленности и торговли. Ни одна человеческая
организация не способна подчинить себе этот процесс.
Так будет ли человек, отдан во власть неудержимых сил техники,
неизмеримо превосходящих его силы, растерянным и беззащитным? Это и
произойдет, если человек окончательно откажется от того, чтобы решительно
противопоставить калькуляции осмысляющее мышление. Но лишь только
осмысляющее мышление пробуждается, оно должно работать непрерывно,
по любому, самому незначительному поводу — так же и здесь, и сейчас, на
этом памятном собрании, поскольку оно дает нам возможность осмыслить
то, что находится под особой угрозой в атомный век, а именно:
укорененность произведений человека.
Поэтому мы задаем такой вопрос: сможет ли человек с утратой старой
укорененности обрести новую почву для коренения и стояния, такую почву и
основу, на которой будут по-новому процветать сущность человека и все его
труды даже в атомный век?
Что же станет основой и почвой для будущего коренения? Возможно, то, что
мы ищем, очень близко, так близко, что мы его просто проглядели. Ведь путь
к тому, что близко, для нас, людей, всегда самый дальний и потому самый
трудный. Это путь размышления. Осмысляющее мышление требует от нас не
цепляться односторонне за какое-то одно представление, сойти с привычной
мысленной колеи, по которой мы мчимся все дальше и дальше.
Осмысляющее мышление требует от нас, чтобы мы занялись тем, что, на
первый взгляд, вовсе не имеет к нему отношения.
Давайте испытаем осмысляющее мышление. Приспособления, аппараты и
машины технического мира необходимы нам всем — для одних в большей,
для других — в меньшей мере. Было бы безрассудно вслепую нападать на
мир техники. Было бы близоруко проклинать его как орудие дьявола. Мы
зависим от технических приспособлений, они даже подвигают нас на новые
успехи. Но внезапно, и не осознавая этого, мы оказываемся настолько крепко
связанными ими, что попадаем к ним в рабство.
Но мы можем и другое. Мы можем пользоваться техническими средствами,
оставаясь при этом свободными от них, так что мы сможем отказаться от них
в любой момент. Мы можем использовать эти приспособления так, как их и
нужно использовать, но при этом оставить их в покое как то, что на самом
деле не имеет отношения к нашей сущности. Мы можем сказать “да”
неизбежному использованию технических средств и одновременно сказать
“нет”, поскольку мы запретим им затребовать нас и таким образом
извращать, сбивать с толку и опустошать нашу сущность.
Но если мы скажем так одновременно “да” и “нет” техническим
приспособлениям, то разве не станет наше отношение к миру техники
двусмысленным и неопределенным? Напротив. Наше отношение к миру
техники будет чудесно простым и спокойным. Мы впустим технические
приспособления в нашу повседневную жизнь и в то же время оставим их
снаружи, т. е. оставим их как вещи, которые не абсолютны, но зависят от
чего-то высшего. Я бы назвал это отношение одновременно “да” и “нет”
миру техники старым словом — “отрешенность от вещей”[8].
Это отношение позволяет увидеть вещи не только технически, оно даст нам
прозреть то, что производство и использование машин требует от нас другого
отношения к вещам, которое не бес-смысленно. Например, мы поймем, что
земледелие
и сельское хозяйство превратились в механизированную пищевую
промышленность, что и здесь, как и в других областях происходит
глубочайшее изменение в отношении человека к природе и к миру перед
ним. Но смысл того, что правит этим изменением, по-прежнему темен.
Итак, во всех технических процессах господствует смысл, который
располагает всеми человеческими поступками и поведением, и не человек
выдумал или создал этот смысл. Мы не понимаем значения зловещего
усиления власти атомной техники. Смысл мира техники скрыт от нас. Но
давайте же специально обратимся и будем обращены к тому, что этот
сокрытый смысл повсюду нас затрагивает в мире техники, тогда мы
окажемся внутри области, которая и прячется от нас, и, прячась, выходит к
нам. А то, что показывается и в то же время уклоняется — разве не это мы
называем тайной? Я называю поведение, благодаря которому мы
открываемся для смысла, потаенного в мире техники, открытостью для
тайны[9].
Отрешенность от вещей и открытость для тайны взаимно принадлежны. Они
предоставят нам возможность обитать в мире совершенно иначе. Они
обещают нам новую основу и почву для коренения, на которой мы сможем
стоять и выстоять в мире техники, уже не опасаясь его.
Отрешенность от вещей и открытость тайне дадут нам увидеть новую почву,
которая однажды, быть может, даже возвернет в ином обличье старую,
сейчас так быстро исчезающую.
Правда, пока (и мы не знаем, как долго это будет продолжаться) человек на
этой земле находится в опасном положении. Почему? Потому лишь, что
внезапно разразится третья мировая война, которая приведет к полному
уничтожению человечества и разрушению земли? Нет. Наступающий
атомный век грозит нам еще большей опасностью, как раз в том случае, если
опасность третьей мировой войны будет устранена. Странное утверждение,
не так ли? Разумеется, странное, но только до тех пор, пока мы не мыслим.
В каком смысле верно это утверждение? А в том, что подкатывающая
техническая революция атомного века сможет захватить, околдовать,
ослепить и обмануть человека так, что однажды вычисляющее мышление
останется единственным действительным и практикуемым способом
мышления.
Тогда какая же великая опасность надвигается тогда на нас? Равнодушие к
размышлению и полная бездумность, полная бездумность, которая может
идти рука об руку с величайшим хитроумием вычисляющего планирования и
изобретательства. А что же тогда? Тогда человек отречется и отбросит свою
глубочайшую сущность, именно то, что он есть размышляющее существо.
Итак, дело в том, чтобы спасти эту сущность человека. Итак, дело в том,
чтобы поддерживать размышление.
Однако отрешенность от вещей и открытость для тайны никогда не придут к
нам сами по себе. Они не выпадут на нашу долю случайно. Они уродятся
лишь из неустанного и решительного мышления.
Возможно, сегодняшнее памятное собрание подвигнет нас на это мышление.
И если мы откликнемся на этот призыв, то мы будем думать о Конрадине
Крейцере, размышляя об истоках его творчества, о его корнях, которые
питала силами его родина. И это именно мы мыслим, когда мы осознаем себя
здесь и сейчас людьми, призванными найти и подготовить путь в атомный
век, через него и из него.
Если отрешенность от вещей и открытость для тайны пробудятся в нас, то
мы выйдем в путь, который ведет нас к новой почве для коренения и стояния.
На этой почве творчество может пустить новые корни и принести плоды на
века.
Так в другой век и несколько по-другому сбываются вновь слова Иогана
Петера Гебела:
“Мы растения, которые — хотим ли мы осознать это или нет — должны
корениться в земле, чтобы, поднявшись, цвести в эфире и приносить плоды”.
Примечания
[1] Эта речь была произнесена на праздновании 175-й годовщины со дня рождения композитора
Конрадина Крейцера 30 октября 1955 г. в Мескирхе, опубликована в 1959 году совместно с
диалогом между ученым, филологом и учителем “К вопросу об отрешенности” (Из разговора на
проселочной дороге) (“Zur Erorterung der Gelassenheit” (Aus einern Feidgesprach uber das Denken)
указ. издание. S. 31—73). Подробная запись этого разговора была сделана еще в 1944—1945 гг.,
потом он был значительно сокращен. В разговоре проблематика, изложенная в речи памяти К.
Крейцера, доступно, но декларативно, без уточнения свойств осмысляющего мышления,
прорабатывается более детально и глубоко.
[2] Конрадин Крейцер (1780 — 1849) — плодовитый композитор, родился в Мескирхе, родном
городе М. Хайдеггера, некоторые его хоры и оперы и сейчас хорошо известны в ФРГ.
[3] Gedenkfeier — торжество в память кого-либо, образовано от глагола gedenken — помнить,
вспоминать кого-либо, который также имеет значение — думать, отсюда — требование М.
Хайдеггера думать на торжестве в память К. Крейцера.
[4] das besinniiche Nachdenken — “думание вслед за чем-то (после чего-то)”.
[5] das denkende d. h. sinnende Wesen.
[6] boden-standig — коренной, местный, оседлый (дословный перевод — “стоящий на почве”).
[7] die Bodenstandigkeit — оседлость, существительное, образованное от bodenstandig.
[8] die Gelassenheit zu den Dingen — неологизм M. Хайдеггера. Современное значение Gelassenheit
— спокойствие, хладнокровие, невозмутимость (образовано от глагола lassen оставлять, давать
возможность, позволять, разрешать кому-либо делать что-то), в средневековой немецкой мистике
оно использовалось в смысле “оставить мир в покое, таким, какой он есть, не мешать
естественному течению вещей и предаться богу” (так использовал это слово Мейстер Экхарт (1260
— 1228). Другие варианты перевода: освобожденность, освобождение, свобода от вещей
(техники).
[9] Die Offenheit fur das Geheimnis.
Текст 2
И. Кант
МЕТАФИЗИКА НРАВОВ (фрагменты работы)
ЧАСТЬ 6. МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ НАЧАЛА УЧЕНИЯ О ДОБРОДЕТЕЛИ
ВВЕДЕНИЕ В УЧЕНИЕ О ДОБРОДЕТЕЛИ
В древние времена этика означала учение о нравственности вообще
(philosophia moralis), которое также называли учением о долге. Позднее
нашли благоразумным перенести это название на одну лишь часть учения о
нравственности, а именно на учение о долге, который не подчинен внешним
законам (это учение немцы предпочитают называть учением о добродетели);
так что теперь система общего учения о долге делится на учение о праве
(lus), которое имеет дело с внешними законами, и на учение о добродетели
(Ethica), которое с ними дела не имеет.
I. Рассмотрение понятия учения о добродетели
Понятие долга есть уже само по себе понятие о каком-то принуждении
свободного произвола со стороны закона. Это принуждение может быть
внешним принуждением или самопринуждением. Моральный императив
провозглашает через свое категорическое суждение (безусловное
долженствование) это принуждение, которое, таким образом, относится не к
разумным существам вообще (среди которых могут быть и святые), а к
людям как к разумным естественным существам, которые достаточно
несвяты, чтобы у них могло возникнуть желание нарушить моральный закон,
хотя они сами признают его авторитет и, даже когда они соблюдают его,
делают это неохотно (борясь со своими склонностями), в чем, собственно, и
состоит принуждение. Но так как человек есть свободное (моральное)
существо, то понятие долга не может содержать никакого иного
принуждения, кроме самопринуждения (посредством одного лишь
представления о законе), когда принимают в соображение внутреннее
определение воли (мотивы), ибо только так становится возможным соединять
принуждение (если бы оно даже было внешним) со свободой произвола, но в
таком случае понятие долга будет этическим понятием.
Естественные побуждения, следовательно, содержат в душе человека
препятствия исполнению долга и (отчасти значительные)
противодействующие силы, и человек должен считать себя способным
противоборствовать им и при помощи разума не в будущем, а именно теперь
одолеть их (также мыслью), т. е. уметь делать то, что он должен делать
согласно безусловному велению закона.
Способность и твердое намерение оказать сопротивление сильному, но
несправедливому врагу есть храбрость (fortitude), а в отношении врага
нравственного образа мыслей в нас есть добродетель (virtus, fortitude moralis).
Следовательно, учение о добродетели есть общее учение о долге в той части,
которая подводит под законы не внешнюю, а внутреннюю свободу.
Учение о праве имело дело только с формальным условием внешней свободы
(благодаря согласию с самим собой, когда его максима становилась
всеобщим законом. Тем не менее, однако, человек в то же время считает себя
как моральное существо — когда он рассматривает себя объективно, к чему
он определен практическим разумом (с точки зрения человечества в его
собственном лице),— достаточно святым, чтобы неохотно нарушать
внутренний закон; ведь нет такого нечестивого человека, который, нарушая
этот закон, не ощущал бы в себе сопротивления и не чувствовал бы
отвращения к себе, при котором он должен принуждать самого себя. Что
человек на таком распутье (где легенда поставила Геракла между
добродетелью и наслаждением) охотнее подчиняется склонности, чем
закону,— это явление объяснить невозможно, так как то, что происходит, мы
можем объяснить, только выводя его из некоторой причины по законам
природы; но при этом мы не могли бы мыслить произвол свободным.— Это
взаимно противоположное самопринуждение и его неотвратимость
позволяют нам, однако, познавать непостижимое свойство самой свободы
(законом), т. е. с правом. Этика, напротив, дает нам еще некую материю
(предмет свободного произвола), цель чистого разума, которая
представляется также как объективно необходимая цель, т. е. как долг для
человека.— В самом деле, так как чувственные склонности влекут к целям
(как к материи произвола), которые могут быть противны долгу, то
законодательствующий разум сможет противиться их влиянию не иначе как
опять-таки при помощи противоположной моральной цели, которая,
следовательно, должна быть дана а priori независимо от склонности.
Цель есть предмет произвола (разумного существа), посредством
представления о котором произвол определяется к действию для создания
этого предмета,— Правда, я могу быть принужден другими совершать те или
иные поступки, направленные как средства к определенной цели, но не могу
быть принужден другими к тому, чтобы иметь ту или иную цель; лишь я сам
могу сделать что-то своей целью.— Но то, что я обязан делать своей целью
нечто лежащее в понятиях практического разума, стало быть, иметь помимо
формального основания определения произвола (как его содержит право)
еще и материальную цель, такую, которую можно было бы противопоставить
цели, возникающей из чувственных побуждений,— это было бы понятием
цели, которая сама по себе есть долг. Но учение о нем имело бы отношения
не к учению о праве, а к этике, которая одна лишь содержит в своем понятии
самопринуждение согласно моральным законам.
На этом основании этика может быть определена как система целей чистого
практического разума.— Цель и долг составляют основу различия между
двумя частями общего учения о нравственности. То обстоятельство, что
этика содержит обязанности, для исполнения которых мы не можем быть
(физически) принуждены другими, есть лишь следствие того, что она
представляет собой учение о целях, так как принуждение к тому, чтобы
иметь или ставить перед собой цель, противоречило бы самому себе.
Что этика есть учение о добродетели (doctrina officiorum virtutis), следует из
данной выше дефиниции, сопоставленной с обязанностью (Verpflichtung)
добродетели, особенность которой мы только что показали.— Нет иного
определения произвола, способного уже в силу своего понятия не
поддаваться принуждению, даже физическому, со стороны произвола других,
чем определение к цели. Другой может, правда, принудить меня делать то,
что не составляет моей цели (а есть лишь средство для [достижения] цели
другого), но он не может заставить меня сделать ее моей целью; и все же я не
могу иметь какую-либо цель, если я не сделаю ее моей. Последнее
противоречит самому себе: оно есть акт свободы, который вместе с тем не
свободен.— Но ставить себе цель, которая в то же время есть долг,— это не
противоречие: в таком случае я сам себя принуждаю, что вполне совместимо
со свободой *.— Но вопрос теперь в том, как возможна такого рода цель?
Ведь возможности понятия вещи (что это понятие не противоречит самому
себе) еще недостаточно для допущения возможности самой вещи
(объективной реальности понятия).
II. Рассмотрение понятия цели, которая есть в то же время долг
Отношение цели к долгу можно мыслить двояко: или, исходя из цели найти
максиму сообразных с долгом поступков, или, наоборот, начиная с максимы,
найти цель, которая есть в то же время долг.— Учение о праве идет по
первому пути. Свободному произволу каждого предоставляется решить,
какую цель он намерен поставить себе для своего поступка. Но максима
произвола определена a priori, а именно что свобода совершающего поступки
совместима со свободой каждого другого, сообразной со всеобщим законом.
Чем меньше человек может быть принужден физически и чем больше,
наоборот, он может быть принужден морально (одним лишь представлением
о долге), тем он свободнее.— Например, если человек, достаточно
решительный и твердый, не отказывается от задуманного им развлечения,
какие бы вредные последствия этого ему ни рисовали, но при мысли о том,
что он в таком случае не выполнит какой-то служебный долг или не сможет
позаботиться о больном отце, без колебаний оставит свое намерение, хотя и
весьма неохотно, то именно тем он доказывает в высшей степени свою
свободу, что не может противостоять голосу долга.
Этика, однако, идет по противоположному пути. Ей нельзя исходить из
целей, которые может ставить себе человек, и сообразно этому
распоряжаться максимами, которые он должен принять, т. е. его долгом, ведь
[иначе] это было бы эмпирическими основаниями максимы, которые не дают
понятия долга, так как оно (категорическое долженствование) имеет свои
корни только в чистом разуме; точно так же если взять максимы согласно
указанным целям (которые все корыстны), то, собственно, и речи не может
быть о каком-либо понятии долга.— Следовательно, в этике понятие долга
должно вести к целям, а максимы в отношении целей, которые нам следует
себе ставить, должны быть обоснованы согласно моральным
основоположениям.
Не решая вопроса о том, что же это за цель, которая сама по себе есть долг, и
как она возможна, здесь необходимо лишь показать, что такого рода долг
называется долгом добродетели и почему он так называется.
Всякому долгу соответствует некое право, рассматриваемое как правомочие
(facultas moralis generatim), но не всякому долгу соответствуют права другого
(facultas iuridica) принуждать кого-то; называются они особо правовыми
обязанностями.— Точно так же всякой этической обязательности
соответствует понятие добродетели, но не всякий этический долг есть
поэтому долг добродетели. Не будет этическим долг, который не имеет
отношения ни к какой-нибудь цели (материи, объекту произвола), ни к
формальному в нравственном определении воли (например, что сообразный с
долгом поступок должен быть совершен также из чувства долга). Только
цель, которая есть в то же время долг, может быть названа долгом
добродетели. Поэтому имеется не один такой долг, а множество (имеются и
различные добродетели); относительно же долга можно мыслить лишь один
добродетельный образ мыслей, но действительный для всех поступков.
Долг добродетели и правовой долг отличаются друг от друга тем, что для
последнего морально возможно внешнее принуждение, первый же покоится
только на свободном самопринуждении. Для конечных святых существ
(которые никогда не могут соблазниться нарушением долга) нет учения о
добродетели, для них есть лишь учение о нравственности, которое есть
автономия практического разума, в то время как первое есть также
автократия практического разума, т. е. содержит если не непосредственно
воспринимаемое, то все же правильно выведенное из нравственного
категорического императива сознание способности справляться со своими не
повинующимися закону склонностями, так что человеческая моральность на
своей высшей ступени может быть не более как добродетелью, даже если бы
она была совершенно чистой (полностью свободной от влияния всех чуждых
долгу мотивов), ибо тогда она как идеал (которому должно постоянно
приближаться) обычно персонифицируется поэтически под именем мудреца.
Добродетель нельзя также определять и оценивать просто как навык (как это
говорится в удостоенном награды сочинении пастора Кохиуса) и
приобретенную длительным упражнением привычку к морально добрым
поступкам. В самом деле, если добродетель не есть результат воздействия
обдуманных, твердых и все более чистых основоположений, то она, как и
любой другой механизм технически практического разума, не вооружена ни
на все случаи, ни для достаточного предохранения себя от изменений,
которые могут быть вызваны новыми соблазнами.
III. На каком основании мыслят себе цель, которая есть в то же время
долг
Цель есть такой предмет свободного произвола, представление о котором
определяет этот произвол к поступку, благодаря которому предмет создается.
Следовательно, каждый поступок имеет свою цель, и так как никто не может
иметь какую-то цель, не делая самого предмета своего произвола целью, то
иметь цель поступков есть акт свободы совершающего поступки субъекта, а
не действие природы. Но так как этот акт, определяющий цель, есть
практический принцип, который предписывает не средства (стало быть, он не
обусловлен), а самое цель (следовательно, он безусловен), то этот принцип
есть категорический императив чистого практического разума, стало быть
такой, который связывает понятие долга с понятием цели вообще.
А такая цель и соответствующий ей категорический императив должны
существовать. В самом деле, так как бывают свободные поступки, то должны
быть и цели, на которые как на объект должны быть направлены эти
поступки. Однако среди этих целей должны быть и такие, которые суть в то
же время (т. е. по своему понятию) долг.— Действительно, если бы не было
таких целей, то, поскольку не бывает бесцельных поступков, все цели
оказались бы для практического разума всегда лишь средствами для других
целей и категорический императив был бы невозможен, а это уничтожает
всякое учение о нравственности.
Здесь, следовательно, идет речь не о целях, которые человек ставит себе под
влиянием чувственных побуждений своей природы, а о таких предметах
свободного, подчиненного своим законам произвола, которые человек
должен делать своей целью. Первые можно назвать техническим
(субъективным), собственно прагматическим, учением о цели, содержащим
правило благоразумия в выборе целей, вторые же — моральным
(объективным) учением о цели; такое различение здесь, однако, излишне, так
как учение о нравственности уже по своему понятию ясно отличается от
учения о природе (здесь — от антропологии); последнее покоится на
эмпирических принципах, моральное же учение о цели, в котором трактуется
о долге, покоится на принципах, данных a priori в чистом практическом
разуме.
IV. Какие цели суть в то же время долг?
Таковы: собственное совершенство и чужое счастье. Их нельзя заменять друг
другом, равно как нельзя, с одной стороны, собственное счастье и, с другой
— совершенство другого делать целями, которые сами по себе были бы
долгом одного и того же лица.
Действительно, собственное счастье есть цель, которую хотя и имеют все
люди (в силу побуждений их природы), но никогда нельзя рассматривать как
долг, не впадая в противоречие с самим собой. То, что каждый неизбежно
уже сам желает, не подпадает под понятие о долге', ведь долг — это
принуждение к неохотно принятой цели. Поэтому было бы противоречием
сказать: человек обязан всеми силами содействовать собственному счастью.
Точно так же противоречиво ставить себе целью совершенство другого и
считать себя обязанным содействовать этому. В самом деле, совершенство
другого человека как лица состоит именно в том, что он сам способен
ставить себе цель по своим собственным представлениям о долге; поэтому
противоречиво требовать (сделать моим долгом), чтобы я сделал то, что
может сделать только другой человек сам.
Объяснение этих двух понятий
А . Собственное совершенство
Слово совершенство часто толкуется ложно. Иногда оно понимается как
принадлежащее трансцендентальной философии понятие целокупности
многообразного, которое, взятое в целом, составляет вещь, а [иногда] также
как принадлежащее телеологии понятие, которое означает согласие свойств
вещи с некоей целью. В первом значении совершенство можно было бы
назвать количественным (материальным), во втором — качественным
(формальным). Первое может быть только единственным (ведь целокупность
присущего одной вещи одна). Качественных же совершенств в одной и той
же вещи может быть несколько. Об этом совершенстве, собственно, и будет
идти здесь речь.
Когда о совершенстве, присущем человеку вообще (собственно
человечеству), говорят, что делать его своей целью есть сам по себе долг, то
это совершенство необходимо усмотреть в том, что может быть результатом
действия человека, а не в том, что есть просто дар и которым человек обязан
природе; ведь иначе оно не было бы долгом. Следовательно, совершенство
может быть не чем иным, как культурой способности человека (или
культурой природных задатков), в которой рассудок как способность [давать]
понятия, стало быть и понятия, касающиеся долга, есть высшая способность,
но в то же время и культурой воли (нравственного образа мыслей) для
удовлетворения всякого долга. 1. Долг человека собственными усилиями
выйти из [состояния] первобытности своей природы, из [состояния]
животности (quoad actum), и все выше подниматься к человеческому
[состоянию], только благодаря которому он и способен ставить себе цели,
восполнять недостаток своего знания и исправлять свои ошибки; и это не
совет технически практического разума для иных его намерений (умения), а
безусловное предписание морально практического разума, который делает
эту цель для него долгом, дабы он был достоин человеческого, которое есть в
нем. 2. Поднять культуру своей воли до самого чистого добродетельного
образа мыслей, когда закон становится также мотивом его сообразных с
долгом поступков, и повиноваться закону из чувства долга — это есть
внутреннее морально практическое совершенство, которое, будучи чувством
действия, оказываемого законодательствующей в нем волей на способность
поступать согласно ей, называется моральным чувством, как бы особым
чувством (sensus moralis), которое часто, правда, ложно толкуется
(missbraucht) как мистическое, как если бы оно (подобно гению Сократа)
предшествовало разуму или вообще могло бы обойтись без его суждения, но
все же есть нравственное совершенство — делать своей каждую отдельную
цель, которая есть в то же время долг.
В. Счастье другого
Человеческой природе неотъемлемо присуще желать себе счастья и искать
его, т. е. удовлетворенность своим состоянием, если есть уверенность, что
это состояние будет продолжаться. Но именно поэтому оно не цель, которая
есть в то же время долг.— Так как некоторые проводят различие между
моральным и физическим счастьем (из которых первое состоит в
удовлетворенности собой как лицом и своим нравственным поведением,
следовательно, тем, что делают, второе же — в удовлетворенности тем, чем
нас одарила природа, стало быть тем, что мы вкушаем как дар другого),— то,
не исследуя здесь ложного толкования слова (которое уже содержит в себе
противоречие), необходимо заметить, что первый способ восприятия
относится исключительно к предыдущей рубрике, а именно к рубрике
совершенства.— В самом деле, тот, кто должен чувствовать себя счастливым
в одном лишь сознании своей порядочности, уже обладает тем
совершенством, которое в предыдущей рубрике было определено как цель,
которая есть в то же время долг.
Поэтому если речь идет о счастье, способствовать достижению которого как
моей цели должно быть долгом, то это должно быть счастье других людей,
чью (дозволенную) цель я тем самым делаю также и моей. Пусть люди сами
судят о том, что составляет счастье для них; но и я вправе отвергать кое-что
из того, что они считают своим счастьем, а я таковым не считаю, если они к
тому же не имеют права требовать этого от меня как своего.
Противопоставлять же указанной цели некую воображаемую обязательность
того, что я должен также позаботиться о своем собственном (физическом)
счастье и сделать таким образом долгом (объективной целью) мою
естественную и чисто субъективную цель, есть лишь мнимое, многократно
приводимое возражение против произведенного выше деления обязанностей
(см. IV) и требует разъяснения.
Неприятности, боль и недостатки — большое искушение нарушить свой
долг. Достаток, сила, здоровье и благополучие вообще, противостоящие
[внешнему] влиянию, также могут как будто бы рассматриваться как цели,
которые суть в то же время долг, а именно содействовать собственному
счастью, а не стремиться лишь к счастью других.— Однако в таком случае
это не цель, а нравственность субъекта, и устранение препятствий к этому
есть лишь дозволенное средство, так как никто другой не имеет права
требовать от меня пожертвовать моей не неморальной целью. Стремиться к
достатку для себя непосредственно не есть долг; но косвенно это, пожалуй,
может быть долгом, например, отвратить бедность как сильное искушение
предаться порокам. Но в таком случае это не мое счастье, а моя
нравственность, сохранять нерушимость которой есть моя цель и в то же
время мой долг.
VI . Этика дает законы не для поступков, a лишь для максим поступков
Понятие долга имеет непосредственное отношение к закону (хотя бы я и
отвлекался от всякой цели как материи закона); ведь на это уже указывает
формальный принцип долга в категорическом императиве: «Поступай так,
чтобы максима твоего поступка могла стать всеобщим законом». Разница
лишь в том, что в этике закон мыслится как закон твоей собственной воли, а
не воли вообще, которая могла бы быть и волей других, и в таком случае мы
имели бы правовой долг, который не принадлежит к области этики.—
Максимы здесь рассматриваются как такие субъективные основоположения,
которые только пригодны для всеобщего законодательства, а это лишь
негативный принцип (не противоречить закону).— Но каким образом в таком
случае может существовать закон для максимы поступков?
Только относящееся к этике понятие цели, которая есть в то же время долг,
обосновывает закон для максим поступков, так как субъективная цель
(которую имеет каждый) подчинена объективной цели (к которой должен
стремиться каждый). Императив: «Ты должен ставить себе целью то или это
(например, счастье других)» — касается материи произвола (объекта). Но так
как никакой свободный поступок невозможен, если совершающий этот
поступок не преследовал при этом также какую-нибудь цель (как материю
произвола), то максима поступков как средств для [достижения] целей
должна содержать только условие пригодности для возможного всеобщего
законодательства, если имеется цель, которая есть в то же время долг; между
тем цель, которая есть в то же время долг, может сделать законом обладание
такой максимой, поскольку для максимы достаточно уже одной лишь
возможности быть в согласии со всеобщим законодательством.
В самом деле, максимы поступков могут быть произвольными и
подчиняются лишь ограничивающему условию способности к всеобщему
законодательству как к формальному принципу поступков. Но закон
устраняет произвольное в поступках и этим он отличается от всякой
рекомендации (когда требуется лишь знать наиболее подходящие средства
для [достижения] той или иной цели).
ЧАСТЬ 7 .ЭТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О НАЧАЛАХ
ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ПО ОТНОШЕНИЮ К САМОМУ СЕБЕ ВООБЩЕ.
ВВЕДЕНИЕ. О СОВЕРШЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ ПО ОТНОШЕНИЮ К САМОМУ СЕБЕ
§5 ДОЛГ ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕД САМИСМ СОБОЙ КАК ЖИВОТНЫМ СУЩЕСТВОМ
Если не главный, то во всяком случае первый долг человека перед самим
собой, если рассматривать человека с точки зрения его животности, это —
самосохранение в его животной природе.
Противоположность самосохранения — произвольное или преднамеренное
разрушение своей животной природы, которое можно мыслить как полное
или как частичное.— Полное разрушение — это лишение себя жизни
(autochiria, suicidium). Частичное разрушение можно в свою очередь делить
на материальное, когда лишают себя какой-то неотъемлемой части тела как
органа — искалечение или увечье, и на формальное, когда лишают себя
(навсегда или на время) способности физического (и тем самым косвенно
также морального) применения своих сил — самопоражение.
Так как в этой главе речь идет только о негативных обязанностях,
следовательно, только о неисполнении, то посвященные долгу пункты
должны быть направлены против пороков, противных долгу перед самим
собой.
§6 O ЛИШЕНИИ СЕБЯ ЖИЗНИ
Произвольное лишение себя жизни только тогда можно назвать
самоубийством (homicidium dolosum), когда может быть доказано, что оно
вообще преступление, совершенное по отношению к нашему собственному
лицу или по отношению к другим (например, когда кончает с собой
беременная женщина).
а) Лишение себя жизни есть преступление (убийство). Его можно
рассматривать и как нарушение своего долга перед другими людьми (долга
супругов, родителей перед своими детьми, подчиненного перед своим
начальством или своими согражданами и, наконец, перед богом, чье
доверенное нам место в этом мире человек покидает, не будучи отозванным с
него). Но здесь речь идет только о нарушении долга перед самим собой, а
именно о том, обязан ли человек сохранять свою жизнь просто в качестве
лица и должен ли он признать этот долг перед самим собой, если даже
отвлечься от всех приведенных выше соображений.
Утверждать, что человек может оскорблять себя, кажется нелепым (volenti
non fit iniuria). Поэтому стоик считал преимуществом своей личности
(мудреца) добровольно, со спокойной душой уйти из жизни (как из полного
дыма помещения), не будучи вытесненным ни настоящим злом, ни
опасением будущего зла, поскольку он уже ничем не может быть полезным в
жизни.— Но именно это мужество, эта душевная стойкость, отсутствие
страха смерти и стремление познать нечто, что человек может ценить выше
своей жизни, должны были бы служить ему еще сильнее побудительной
причиной к тому, чтобы не разрушать себя, существо со столь большим
превосходством сил над могущественнейшими чувственными мотивами,
следовательно, не лишать себя жизни.
Человек не может отчуждаться от своей личности, пока дело идет о долге,
следовательно, пока он жив; было бы противоречием иметь правомочие
освобождать себя от всякой обязательности, т. е. свободно поступать так, как
если бы для такого поступка не нужно было быть правомочным. Уничтожать
в своем лице субъект нравственности — это то же, что искоренять в этом
мире нравственность в самом ее существовании, потому что она в человеке, а
ведь лицо есть цель сама по себе; стало быть, распоряжаться собой просто
как средством для любой цели — значит унижать достоинство человечества в
своем лице (homo noumenon), которому ведь и был вверен человек (homo
phaenomenon) для сохранения.
К частичному самоубийству относятся: лишение себя какой-нибудь
неотъемлемой части тела как органа (нанести себе увечье), например
подарить кому-нибудь зуб или продать его, с тем чтобы вставить его в
челюсть другого, или дать себя кастрировать, с тем чтобы в качестве певца
жить более удобно, и т. п. Однако ампутация омертвевшего или грозящего
омертвением органа, вредного для жизни, не есть частичное самоубийство.—
Точно так же удаление части тела, но не органа тела, например волос, нельзя
считать преступлением по отношению к своему собственному лицу, хотя
такое удаление не совсем невинно, если оно задумано ради какого-то
внешнего приобретения.
Казуистические вопросы
Самоубийство ли идти (как Курций) на верную смерть ради спасения
отечества? Следует ли считать преднамеренное мученичество, когда человек
для блага рода человеческого приносит себя в жертву, таким же героическим
подвигом, как смерть ради спасения отечества?
Позволительно ли предупреждать несправедливый смертный приговор
своего властелина самоубийством, даже если он позволяет это (как Нерон
Сенеке)?
Можно ли великому, недавно умершему монарху вменять в вину то, что он
носил с собой быстродействующий яд, по всей вероятности, для того, чтобы,
в случае если в войне, в которой он лично участвует, он попадет в плен, не
быть вынужденным согласиться на условия своего освобождения, которые
могли бы нанести ущерб его государству? Можно ли считать это преступным
намерением, если нет оснований подозревать здесь только гордость?
Человек принял водобоязнь за следствие укуса бешеной собаки и, объявив,
что он знает, что эта болезнь неизлечима, покончил с собой, дабы своим
бешенством (начало которого он уже почувствовал) не сделать несчастными
и других людей, как сказано в написанной им перед смертью записке.
Спрашивается, совершил ли он несправедливость?
Кто решается привить себе оспу, рискует своей жизнью, хотя он это делает
для того, чтобы сохранить ее, и поэтому перед ним гораздо более
затруднительный случай закона долга, чем перед, мореплавателем: этот по
крайней мере не создает сам шторма, которому ему приходится доверяться, в
то время как тот сам навлекает на себя болезнь, подвергая свою жизнь
опасности. Итак, дозволена ли прививка оспы?
§7 О СЛАДОСТРАСТНОМ САМООСКВЕРНЕНИИ
Точно так же как любовь к жизни предназначена от природы для сохранения
отдельного лица, половая любовь предназначена для сохранения рода; это
означает, что каждая из них — естественная цель, под которой понимают
такую связь между причиной и действием, когда причина хотя ей и не
придается для этого рассудок, тем не менее, мыслится по аналогии с ним,
следовательно, как бы преднамеренно порождающей человека.
Спрашивается, подчинено ли применение способности половой любви
какому-нибудь ограничительному закону долга, или же половая любовь, не
ставя перед собой упомянутой цели, вправе применять половые свойства
только ради скотского наслаждения, не нарушая этим какого-либо долга
перед самим собой? В учении о праве доказывается, что человек не может
без особого ограничения по правовому договору пользоваться другим лицом
для такого наслаждения; поэтому два лица и берут на себя взаимные
обязательства. Но здесь вопрос в том, существует ли в отношении этого
наслаждения долг человека перед самим собой, нарушение которого есть
осквернение (не только унижение) человечества в его собственном лице.
Стремление к наслаждению [без правового ограничения] называется похотью
(или просто сладострастием). Порок, возникающий из этого, называется
распутством, а добродетель в отношении этих чувственных побуждений —
целомудрием, которое здесь должно быть представлено как долг человека
перед самим собой. Неестественным следует назвать наслаждение, которое
вызывается не действительным предметом, а лишь создаваемым в себе
воображением об этом предмете, стало быть, вопреки цели. В самом деле,
такое наслаждение порождает вожделение вопреки цели природы, а именно
цели более важной, чем даже цель любви к жизни, так как последняя
стремится лишь к сохранению индивида, а та — к сохранению всего рода.
Что такое противоестественное употребление своих половых свойств (стало
быть, злоупотребление ими) есть нарушение долга перед самим собой, и
притом в высшей степени противоречащее нравственности, тотчас приходит
на ум каждому, задумавшемуся над этим, причем мысль эта вызывает
отвращение до такой степени, что считается безнравственным даже называть
подобный порок его именем,— чего не бывает, когда речь идет о пороке
самоубийства; показывать людям этот порок со всеми его ужасами (в
некотором species facti) можно по крайней мере без всякого смущения — как
если бы человек вообще стыдился быть способным на поведение,
низводящее его до степени скота, так что даже допустимое (разумеется, само
по себе чисто животное) общение между мужчиной и женщиной в браке
обычно требует в цивилизованном обществе много тонкости для того, чтобы
завуалировать его, когда приходится все же говорить о нем.
Однако логическое доказательство недопустимости упомянутого
неестественного и даже просто нецелесообразного употребления своих
половых свойств как нарушения (и притом, если речь идет о первом, то в
высшей степени) долга перед самим собой не так легко дается.— Основание
доказательства заключается, конечно, в том, что человек отказывается от
своей личности (унижая ее), когда употребляет себя лишь как средство для
удовлетворения своих животных инстинктов. Но при этом не объясняется
высокая степень нарушения человеческого в его собственном лице из-за
неестественности такого порока, так как этот порок по своей форме (по
образу мыслей) превосходит, кажется, даже порок самоубийства. Разве
только, что при самоубийстве пренебрежение собой как обузой в жизни не
есть, по крайней мере, отдача себя во власть животного побуждения, а
требует мужества, когда все еще имеется уважение к человечеству в своем
собственном лице; распутство же, когда человек целиком отдается животным
побуждениям, делает его употребляемой, но, тем не менее, и
противоестественной вещью, т. е. отвратительным предметом, и тем самым
лишает его всякого уважения к самому себе.
Казуистические вопросы
Цель природы в совокуплении мужчины и женщины—в продолжении, т. е.
сохранении, рода; поэтому, по меньшей мере, нельзя действовать против
этой цели. Но позволено ли, не принимая во внимание эту цель, такое
совокупление (даже если это происходит в браке)?
Не противно ли цели природы и тем самым долгу перед самим собой со
стороны, как мужчины, так и женщины стремиться употреблять свои
половые свойства во время, например, беременности, или стерильности
женщины (из-за возраста или болезни), или когда у нее нет никакого
влечения? Существует ли дозволяющий закон морально практического
разума, (как бы снисходительно) допускающий при столкновении
определяющих оснований этого разума нечто само по себе недопустимое
ради предупреждения еще большего нарушения? Где тот пункт, начиная с
которого можно считать ограничение обязательности в широком смысле
пуризмом (педантизмом в отношении соблюдения долга, если брать его в
широком смысле) и предоставлять свободу действий животным
наклонностям, не боясь отойти от основанного на разуме закона?
Половое влечение называется также любовью (в самом узком смысле слова)
и в действительности есть величайшее чувственное наслаждение каким-либо
предметом; не просто чувственное наслаждение предметами, которые
нравятся при одном лишь размышлении о них (восприимчивость к ним
называется вкусом), а наслаждение, получаемое от пользования другим
лицом и относящееся, таким образом, к способности желания, и притом к
высшей ее ступени — страсти. Но его нельзя причислять ни к любви
удовольствия, ни к любви благоволения (так как они, скорее, удерживают
человека от плотского наслаждения): оно есть наслаждение особого рода (sui
generis), и пылкость не имеет, собственно, ничего общего с моральной
любовью, хотя пылкость может быть с нею тесно связана, если к ней
присоединяется практический разум со своими ограничивающими
условиями.
§8 О САМОПОРАЖЕНИИ ОТ НЕУМЕРЕННОСТИ В УПОТРЕБЛЕНИИ
СРЕДСТВ УДОВОЛЬСТВИЯ И ПИТАНИЯ
Порок в такого рода неумеренности рассматривается здесь не с точки зрения
вреда или физической боли (таких болезней), которые человек причиняет
себе этим, ибо в таком случае речь шла бы о принципе здоровья и удобства
(следовательно, о принципе счастья), с помощью которого следовало бы
противодействовать этому пороку; но такой принцип мог бы обосновать
вовсе не долг, а только правило благоразумия; во всяком случае ,он не был
бы принципом прямого долга.
Скотская неумеренность в пище есть злоупотребление средствами
удовольствия, из-за чего уменьшается или истощается способность их
интеллектуального применения. Пьянство и обжорство — пороки, которые
подходят под эту рубрику. Человека, находящегося в пьяном состоянии,
следует рассматривать как животное, а не как человека. Перегрузка пищей
делает человека на время неспособным совершать действия, требующие
ловкости и рассудительности.— Что доходить до такого состояния означает
нарушение долга перед самим собой,— это очевидно. Первое из этих
унижений, даже среди животных, вызывается обычно хмельными напитками
и другими одурманивающими средствами, такими, как маковое семя и
прочие продукты растительного царства; оно соблазняет тем, что благодаря
им на короткое время наступает состояние мнимого счастья и беззаботности
и возникает даже воображаемая сила; [затем] наступает разбитость и
слабость и, что хуже всего, становится необходимостью повторять
[применение] этих одурманивающих средств, причем во все большем
объеме. Обжорство есть животное чувственное удовольствие, поскольку оно
превращает чувство лишь в пассивное свойство, и даже воображение не
работает, а ведь при воображении все же происходит деятельная игра
представлений, как это бывает при пьянстве; стало быть, обжорство еще
ближе к животному чувственному удовольствию.
Казуистические вопросы
Можно ли употреблять вино, если не как панегирист, то хотя бы как
апологет, до степени, близкой к опьянению? Ведь оно делает общество более
разговорчивым и тем самым приводит к откровенности.— Или можно
признать за ним ту заслугу, что оно содействует тому, что славил Сенека в
Катоне: virtus eius incaluit mero? Употребление опиума и водки как средств
удовольствия более мерзко, так как они при мнимоприятном состоянии
делают человека безмолвным, скрытным и безучастным, почему они и
дозволены только как лечебное средство. Но кто может определить меру для
человека, который вот-вот перейдет в состояние, когда его взор уже
перестанет видеть какую-либо меру? — Магометанство, полностью
запретившее [употребление] вина, сделало плохой выбор, разрешив взамен
этого употребление опиума.
Пиршество как приглашение по всем правилам к неумеренности в обоих
видах наслаждения помимо чисто физического удовольствия имеет еще
нечто направленное на нравственную цель, а именно держит много людей и
на долгое время во взаимном общении. Но так как множество людей (если их
количество, как говорит Честерфилд, превосходит число муз) позволяет
только небольшое общение (с рядом сидящими), стало быть сама обстановка
противоречит цели взаимного общения, то пиршество всегда побуждает к
безнравственному, а именно к неумеренности, к нарушению долга перед
самим собой, не говоря о физическом вреде перегрузки [пищей], который
может быть устранен врачом. Как далеко простирается нравственное
правомочие принимать такие приглашения к неумеренности?
ЧАСТЬ 8. О ДОЛГЕ ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ КАК
ПЕРЕД ПРИРОЖДЕННЫМ СУДЬЕЙ НАД САМИМ СОБОЙ.
О ПЕРВОМ ВЕЛЕНИИ ВСЯКОГО ДОЛГА ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ
§ 14
Это веление заключается в следующем: познай (исследуй, постигай) самого
себя не по твоему физическому совершенству (по твоей пригодности или
непригодности ко всякого рода угодным тебе или предписываемым тебе
целям), а по моральному совершенству в отношении твоего долга—познай
свое сердце: доброе ли оно или злое, чист ли источник твоих поступков или
нет и что может быть человеку вменено как изначально присущее его
субстанции или как производное (приобретенное или нажитое) и, быть
может, принадлежит к моральному состоянию.
Начало всякой человеческой мудрости есть моральное самопознание,
стремящееся проникать в трудно измеряемые глубины (бездну) сердца. В
самом деле, мудрость, состоящая в согласии воли существа с конечной
целью, нуждается у человека, прежде всего, в развитии стремления устранять
внутренние препятствия (некоей злой, гнездящейся в нем воли), а затем
культивировать никогда не утрачиваемые первоначальные задатки доброй
воли (только нисхождение самопознания в ад прокладывает путь к
обожествлению 37).
§ 15
Это моральное самопознание устранит, во-первых, фанатическое презрение к
самому себе как к человеку (ко всему человеческому роду) вообще, ибо такое
презрение противоречит самому себе. Только благодаря заложенным в нас
прекрасным задаткам добра, делающим человека достойным уважения,
возможно то, что человек считает [в себе] достойным презрения человека
(самого себя, но не человеческое в себе), если он поступает вопреки этим
задаткам.— Во-вторых, моральное самопознание противодействует также
самолюбивой оценке самого себя, когда считают доказательством доброты
сердца одни лишь желания (тем более если они выражены с большой
страстью), так как они сами по себе не превращаются в действия и остаются
бездейственными {молитва также есть лишь желание, внутренне
высказанное божеству). Беспристрастность в суждениях о самом себе при
сравнении с законом и искренность в признании себе своего морального
достоинства или недостойности — это долг перед самим собой,
непосредственно вытекающий из первого веления — из самопознания. ТО,
ЧТО ЕСТЬ ДОЛГ ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ, СЧИТАТЬ
ДОЛГОМ ПЕРЕД ДРУГИМИ
§ 16
Если судить исходя из одного лишь разума, то у человека нет иного долга,
как долг перед человеком (перед самим собой или перед другим); ведь его
долг перед каким-нибудь субъектом есть моральное принуждение со стороны
воли этого субъекта. Принуждающий (обязывающий) субъект должен,
следовательно, быть, во-первых, некоторым лицом, во-вторых, это лицо
должно быть дано как предмет опыта, так как человек должен осуществлять
цель воли этого лица, что может иметь место только во взаимоотношениях
двух существующих людей (ведь одно лишь пустое порождение мысли не
может стать причиной преследования цели). Но из всего нашего опыта мы
знаем только одно существо, которое было бы способно брать на себя долг
(активный или пассивный),— человека. Следовательно, человек может иметь
долг только перед одним существом — перед человеком, и если ему тем не
менее представляется, что у него есть долг перед другим существом, то это
происходит только из-за амфиболии рефлективных понятий, а его мнимый
долг перед другими существами есть лишь долг перед самим собой. К такому
недоразумению его приводит то, что он свой долг в отношении других
существ смешивает с долгом перед этими существами.
Этот мнимый долг можно иметь в отношении вещей (unpersцnliche
Gegenstдnde), а если в отношении лиц, то только абсолютно невидимых
(которые не могут быть ·. представлены внешним чувствам).— Первыми
(внечеловеческими) могут быть чисто природное вещество, часть
органической природы, способная к размножению, но лишенная восприятия,
или часть, одаренная восприятием и произволом (минералы, растения,
животные); вторые могут мыслиться как духовные существа (ангелы, бог).—
Теперь возникает вопрос: имеет ли место отношение долга между этими
двум видами существ и человеком, и какое именно отношение.
§17
В отношении прекрасного, хотя и неживого в природе, склонность к
разрушению (spiritus destructionis) противна долгу человека перед самим
собой, так как это ослабляет или уничтожает в человеке то чувство, которое,
правда, само по себе не морально, но подготовляет весьма способствующую
моральности настроенность чувственности по меньшей мере к тому, чтобы
любить нечто также и не имея в виду какую-либо выгоду (например,
прекрасную кристаллизацию, неописуемую красоту растительного мира).
В отношении живой, хотя и лишенной разума, части тварей насильственное и
вместе с тем жестокое обращение с животными еще более противно долгу
человека перед самим собой, так как этим притупляется сочувствие человека
к их страданиям и ослабляются и постепенно уничтожаются естественные
задатки, очень полезные для моральности в отношениях с другими людьми,
хотя человек имеет право на их быстрое (совершаемое без мучений)
умерщвление или на то, чтобы заставлять их работать напряженно, но не
сверх сил (с такого рода работой и людям приходится мириться).
Мучительные же физические опыты в интересах одной лишь спекуляции,
если цель могла бы быть достигнута и без них, отвратительны.— Даже
благодарность за долголетнюю работу старой лошади или за длительную
службу собаки (как если бы они были членами семьи) есть косвенно долг
человека, а именно в отношении этих животных, но непосредственно она
есть долг человека перед самим собой.
§ 18
В отношении того, что целиком лежит за пределами нашего опыта, но по
своей возможности встречается в наших идеях, например в идее бога, мы
точно так же имеем долг, называемый религиозным долгом, который есть
долг «признания всех наших обязанностей как (instar) божественных
заповедей». Но это не есть сознание долга перед богом. В самом деле, так как
эта идея полностью исходит из нашего собственного разума и создается нами
с теоретической целью, для объяснения целесообразности во вселенной или
для того, чтобы служить мотивом в нашем поведении, то это не есть некое
данное существо, перед которым на нас лежал бы какой-то долг, ибо в таком
случае действительность этого существа должна была бы быть доказана
прежде всего опытом; долг человека перед самим собой—применять эту
неизбежно появляющуюся в разуме идею к моральному закону в нас, где она
нравственно в высшей степени плодотворна. В таком {практическом) смысле
можно это [положение] сформулировать следующим образом: иметь
религию— долг человека перед самим собой.
Вариант 1
Часть 1.
Задание 1. Этому философу свойственно новое отношение к природе и
в этой связи новое понимание целей и задач науки и философии. Он
предлагает реформаторское преобразование в гносеологии своего периода.
Знание должно стать мощным орудием, полагает он, и предлагает свой
метод скрупулезного исследования эмпирической, чувственно
воспринимаемой действительности, положив тем самым начало целому
направлению.
Задание 2. Этот философ стал представителем «критики справа»
классической философской традиции. Идея переосмысления роли и
значения Бога в западно-европейской культуре была выражена им с
радикальных позиций, которая, на его взгляд, потребовала переосмысления
этической проблематики. В предложенных философом идеях
антропологического характера он видел выход из кризисной ситуации
экзистенциального вакуума своего времени.
Часть 2.
Задание 1. «Диалектическое представление о бытии, в рамках
которого допускается идея его субстанциального устройства».
А В
Речь идет о противоположных точках
зрения на понимание мироустройства
в его чувственно-воспринимаемом
выражении, что позволяет
одновременно признавать наличие
единой фундаментальной
первоосновы бытия.
Понимание объективной реальности как
находящейся в постоянном развитии
допускает наличие в нем
фундаментальной неизменной
первоосновы, связывающей всё его
многообразие в целостное единство.
Задание 2. «Категория субстанции как выражение
плюралистического взгляда на бытие, которое позволило
переосмыслить основное положение монизма».
А В
Понимание объективной реальности
как состоящей из множества
первооснов позволяет отвергнуть
представление о том, что в ее основе
находится только одна
первопричина.
Идея о мире, находящемся в постоянном
развитии опровергает представление о его
статичности и неизменности.
Практическая работа - задание по статьям
Статья. М. Хайдеггер. Отрешенность
Блок-схема для анализа первой статьи
Таблицы-вопросники к разделу «анализ первой статьи»
Статья. И. Кант. Метафизика нравов
Блок-схема для анализа первой статьи
Таблицы-вопросники к разделу «анализ второй статьи»
Вариант 1. Контрольная работа
Часть 1
Задание 1.
Задание 2.
Часть 2
Задание 1.
Задание 2.
Список литературы
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
РАБОТА ПО СТАТЬЯМ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАДАНИЙ
Практическое задание должно быть представлено в электронном
виде как документ Microsoft Word. Шрифт –– Times New Roman, 14
кегль; межстрочный интервал –– 1,5.
Внимательно прочитайте статьи М. Хайдеггера «Отрешенность»
и И. Канта «Метафизика нравов», раскройте смысл их ключевых
идей в аннотациях.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать за
практическое задание, – 22. Работа считается зачтенной при условии,
что вы набрали 14 и более баллов.
ПЛАН АННОТАЦИЙ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО АНАЛИЗА
Аннотация статьи представляет собой работу, состоящую из 2-х
этапов.
Первый этап: составление блок-схемы, отражающей общую
концепцию статьи (основная идея автора, аргументы, раскрывающие
основную идею, вывод автора, ключевые слова статьи, характеризующие
специфику понятийного аппарата автора (10 единиц)). Второй этап:
заполнение пустых ячеек таблицы (в правом столбце) материалом статей в
соответствии с формулировками и вопросами, предложенными в левом
столбце таблицы.
ВНИМАНИЕ! Оформляйте работы согласно требованиям: в виде
блок-схемы и таблицы по предложенному шаблону! Невыполнение этих
требований снизит вашу оценку!
ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Сумма баллов от 14 до 22:
22 б. – дан анализ всех статей; представлена блок-схема; заполнена
таблица-вопросник во всем объеме;
18 б.– дан анализ всех статей; представлена блок-схема; таблица-
вопросник заполнена в недостаточном объеме;
14 б. – дан анализ всех статей; представлена блок-схема; таблица-
вопросник заполнена в недостаточном объеме, слишком кратко и поверхностно;
менее 14 б. – дан анализ не всех статей; отсутствует блок-схема;
таблица-вопросник заполнена в недостаточном объеме, небрежно и
поверхностно.
1. БЛОК-СХЕМА ДЛЯ АНАЛИЗА СТАТЕЙ
Блок-схема представляет собой первый этап письменного анализа
статей в виде краткого освещения наиболее значимых авторских идей
схематично отражающей концепцию работы.
№ статьи, фамилия автора, название работы
Основная идея автора
Аргумент 1 Аргумент 2 Аргумент n
Вывод автора
Ключевые слова статьи (10 единиц)
2. ТАБЛИЦЫ-ВОПРОСНИКИ
К РАЗДЕЛУ «АНАЛИЗ СТАТЕЙ»
Заполнение таблицы (в правом столбце) представляет собой «нарезку»
смысловых частей текста статьи соответственно ключевым
формулировкам в левом столбце. Задача: расширить, «распаковать»,
конкретизировать смысл ключевых формулировок и вопросов, можно
добавлять свои размышления (но обязательно в формат таблицы).
1. Хайдеггер М. Отрешенность // Разговор на проселочной дороге. М.: 1991
1. «бездумность» современности как
бегство от мышления;
2. вычисляющее мышление и
осмысляющее мышление;
3. «укорененность» человека и утрата
укорененности;
4. технизированность мира и
осмысляющее мышление;
5. отрешенность от вещей как не-
бессмысленность, постижение смысла
мира техники;
6. опасность технического прогресса:
особенности авторского понимания.
7. способность сказать технике «да» и
«нет « одновременно».
2. И. Кант. Метафизика нравов (фрагменты работы, ч. 6-8)
1. В чем смысл названия работы И. Канта
«Метафизика нравов» с точки зрения
учения о добродетели?
2. Обоснуйте мысль философа о том, что
предназначение человека заключается в
стремлении преодолеть животное
начало и взрастить в себе
человеческое?
3. В чем, по Канту, состоит долг человека
перед самим собой?
4. Раскройте смысл формулировки этого
долга: «собственное
самосовершенствование и счастье
другого».
5. Каковы обязанности добродетели по
отношению к другим?
6. Почему с точки зрения Канта смысл
формулировок: «собственное
самосовершенствование» и «счастье
другого» недопустимо менять местами?
7. Почему, согласно Канту, не допустимо
лишать себя жизни именно с этической
точки зрения? Как здесь выражается
нравственный долг человека перед
другими, но главное, перед самим
собой?
ТЕКСТЫ СТАТЕЙ
Текст 1
М. Хайдеггер.
ОТРЕШЕННОСТЬ
Перевод с издания: Heidegger Martin. Gelassenheit. Gunther Neske. Pfullingen, 1959. S. 11 — 28[1]. A. G.
Солодовникова, перевод, 1991.
Первое, что я могу сказать своему родному городу, — это слова
признательности. Я благодарю мою родину за все, что она дала мне в
дальний путь. Что это за приданое, я пытался объяснить на страницах статьи
“Проселочная дорога” в юбилейном сборнике, появившемся к столетию со
дня смерти Конрадина Крейцера[2]. Я благодарю господина бургомистра
Шюле за его сердечное приветствие и за ту честь, которую мне оказали,
поручив выступить с памятной речью на сегодняшнем торжестве.
Уважаемое собрание!
Дорогие соотечественники!
Мы собрались здесь на торжестве, посвященном нашему земляку,
композитору Конрадину Крейцеру. Чтобы чествовать такого человека —
творческую личность, нужно прежде всего оценить по достоинству его
произведения. А значит, чтобы чествовать музыканта, надо слушать его
музыку.
Сегодня мы услышим произведения Конрадина Крейцера — его песни и
хоры, камерную и оперную музыку. В этих звуках присутствует сам
композитор, так как по-настоящему мастер присутствует лишь в своей
работе. И если это действительно большой мастер, то его личность
полностью исчезнет за его работой.
Певцы и музыканты, участвующие в сегодняшнем празднестве, будут
гарантами того, что произведения Конрадина Крейцера прозвучат сегодня
для нас.
Но будет ли это торжество в то же время и памятным? Ведь торжество в
память кого-либо означает, что мы думаем[3]. Так о чем же мы должны
думать и говорить на чествовании памяти композитора? Разве музыка не
отличается тем, что она может “говорить” просто звучанием своих звуков, и
разве ей нужен обычный язык — язык слов? Ведь так обычно считают. И все
же остается вопрос: смогут ли музыка и пение превратить торжество в
памятное, в такое, на котором мы думаем? Вероятно, не смогут. Поэтому
памятная речь и была включена в программу праздника. Она специально
должна помочь нам думать о чествуемом человеке и его произведениях.
Такие воспоминания оживают, когда еще раз пересказывают историю жизни
Конрадина Крейцера, перечисляют и описывают его произведения. Слушая
такое повествование, мы испытываем радость и печаль, узнаем много
поучительного и полезного. Но на самом деле мы лишь развлекаемся.
Слушая такой рассказ, вовсе и не обязательно думать, не требуется
размышлять о том, что относится к каждому из нас в отдельности
непосредственно и постоянно в его собственном бытии. Таким образом, даже
памятная речь не может быть залогом того, что мы будем думать на
памятном торжестве.
Не надо дурачить себя. Все мы, включая и тех, кто думает по долгу службы,
достаточно часто бедны мыслью, мы слишком легко становимся
бездумными. Бездумность — зловещий гость, которого встретишь повсюду в
сегодняшнем мире, поскольку сегодня познание всего и вся доступно так
быстро и дешево, что в следующее мгновение, полученное так же поспешно,
и забывается. Таким образом, одно собрание сменяется другим. Памятные
празднества становятся все беднее и беднее мыслью, так что теперь
памятные собрания и бездумность уже неразлучны.
Но даже когда мы бездумны, мы не теряем нашей способности думать. Мы
ее, безусловно, используем, но, конечно, особым образом: в бездумности мы
оставляем способность мыслить невозделанной, под паром. Но только то
может лежать под паром, что способно стать почвой для роста, например
пашня. Автострада, на которой ничего не растет, никогда не может лежать
под паром. Как оглохнуть мы можем только потому, что обладаем слухом, а
состариться — только потому, что были молоды, точно так же мы можем
стать бедными мыслями и даже бездумными лишь потому, что в самой
основе своего бытия человек обладает способностью к мышлению, “духу и
разуму”, и мышлению предназначен и уготован. Мы можем лишиться или,
как говорят, отделаться только от того, чем мы обладаем, знаем ли мы об
обладаемом или нет.
Усиливающаяся бездумность проистекает из болезни, подтачивающей самую
сердцевину современного человека. Сегодняшний человек спасается
бегством от мышления. Это бегство от мышления и есть основа для
бездумности. Это такое бегство, что человек его и видеть не хочет и не
признается в нем себе самому. Сегодняшний человек будет напрочь отрицать
это бегство от мышления. Он будет утверждать обратное. Он скажет — имея
на это полное право, что никогда еще не было таких далеко идущих планов,
такого количества исследований в самых разных областях, проводимых так
страстно, как сегодня. Несомненно, так тратиться на хитроумие и
придумывание по-своему очень полезно и выгодно. Без такого мышления не
обойтись. Но при этом остается так же верно и то, что это лишь частный вид
мышления.
Его специфичность состоит в том, что когда мы планируем, исследуем,
налаживаем производство, мы всегда считаемся с данными условиями. Мы
берем их в расчет, исходя из определенной цели. Мы заранее рассчитываем
на определенные результаты. Это рассчитывание является отличительной
чертой мышления, которое планирует и исследует. Такое мышление будет
калькуляцией даже тогда, когда оно не оперирует цифрами и не пользуется
калькулятором или компьютером. Рассчитывающее мышление калькулирует.
Оно беспрерывно калькулирует новые, все более многообещающие и
выгодные возможности. Вычисляющее мышление “загоняет” одну
возможность за другой. Оно не может успокоиться и одуматься, прийти в
себя. Вычисляющее мышление — это не осмысляющее мышление, оно не
способно подумать о смысле, царящем во всем, что есть.
Итак, есть два вида мышления, причем существование каждого из них
оправдано и необходимо для определенных целей: вычисляющее мышление
и осмысляющее раздумье[4].
Именно это осмысляющее раздумье мы и имеем в виду, когда говорим, что
сегодняшний человек спасается бегством от мышления. Все же можно
возразить: само по себе осмысляющее размышление парит над
действительностью, оно потеряло почву. Оно не поможет нам справиться с
повседневными делами. Оно бесполезно в практической жизни.
И, наконец, говорят, что чистое размышление, стойкое осмысление “выше”
обычного рассудка. В последней отговорке верно только то, что
осмысляющее мышление само не получается, впрочем как и вычисляющее.
Для осмысляющего мышления подчас необходимы высшие усилия. Оно
требует более длительного упражнения. Для него нужна еще более чуткая
забота, чем для любого другого настоящего ремесла. А еще оно должно
уметь ждать, как ждет крестьянин, взойдет ли семя, даст ли урожай.
И все же каждый может выйти в путь размышления по-своему и в своих
пределах. Почему? Потому что человек — это мыслящее, т. е. осмысляющее
существо[5]. Чтобы размышлять, нам отнюдь не требуется “перепрыгнуть
через себя”. Достаточно остановиться на близлежащем и подумать о самом
близком: о том, что касается каждого из нас — здесь и сейчас, здесь, на этом
клочке родной земли, сейчас — в настоящий час мировой истории.
На какие мысли наведет нас этот праздник, конечно, в том случае, если мы
готовы одуматься? Мы увидим, что произведение искусства созрело на почве
своей родины. Если мы задумаемся над этим простым фактом, то мы
обязательно подумаем и о том, что за последние два столетия Швабия
породила великих поэтов и мыслителей. Если мы будем размышлять далее,
то окажется, что Центральная Германия такая же земля, ровно как и
Восточная Пруссия, Силезия и Богемия.
Мы задумаемся и спросим: а может быть, любое настоящее творение
коренится в почве своей родной земли? Иоган Гебел однажды написал: “Мы
растения, которые — хотим ли мы осознать это или нет — должны
корениться в земле, чтобы, поднявшись, цвести в эфире и приносить плоды”
(Werke, ed. Altwegg, III, 314).
Поэт хочет сказать: чтобы труд человека принес действительно радостные и
целебные плоды, человек должен подняться в эфир из глубины своей родной
земли. Эфир здесь означает свободный воздух небес, открытое царство духа.
Мы задумаемся еще сильнее и спросим: а как обстоит сегодня дело с тем, о
чем говорил Иоган Петер Гебел? По-прежнему ли человек тихо обитает
между небом и землей? По-прежнему ли царит на земле осмысляющий дух?
Есть ли еще родина, в почве которой — корни человека, в которой он
укоренен?[6]
Многие немцы лишились своей родины, им пришлось оставить свои города и
села, их изгнали с родной земли. Многие другие, чья родина была спасена,
все же оторвались от нее, попавши в ловушку суеты больших городов, им
пришлось поселиться в пустыне индустриальных районов. И сейчас они
чужие для своей бывшей родины. А те, кто остался на родине? Часто они еще
более безродны, чем те, кто был изгнан. Час за часом, день за днем они
проводят у телевизора и радиоприемника, прикованные к ним. Раз в неделю
кино уводит их в непривычное, зачастую лишь своей пошлостью,
воображаемое царство, пытающееся заменить мир, но которое не есть мир.
“Иллюстрированная газета” доступна всем. Как и все, с помощью чего
современные средства информации ежечасно стимулируют человека,
наступают на него и гонят его — все, что уже сегодня ближе человеку, чем
пашни вокруг его двора, чем небо над землей, ближе, чем смена ночи днем,
чем обычаи и нравы его села, чем предания его родного мира.
Мы задумаемся еще и спросим: что происходит здесь — как с людьми,
оторванными от родины, так и с теми, кто остался на родной земле? Ответ:
сейчас под угрозой находится сама укорененность [7] сегодняшнего
человека. Более того: потеря корней не вызвана лишь внешними
обстоятельствами и судьбой, она не происходит лишь от небрежности и
поверхностности образа жизни человека. Утрата укорененности исходит из
самого духа века, в котором мы рождены.
Мы задумаемся еще и спросим: если это так, смогут ли еще и впредь человек
и его творения корениться в плодородной почве родины и тянуться к эфиру,
на простор небес и духа? Или же все попадает в тиски планирования и
калькуляций, организации и автоматизации?
Осмысляя то, что нам подсказывает это торжество, мы увидим: нашему веку
грозит утрата корней. И мы спросим: что же на самом деле происходит в
наше время? Чем оно отличается?
Век, который сейчас начинается, недавно был назван атомным веком. Его
самое неотступное знамение — атомная бомба, но это — примета лишь
очевидного, так как сразу же признали, что атомная энергия может быть
использована и в мирных целях. И сегодня физики-ядерщики всего мира
пытаются осуществить мирное использование ее в широких масштабах.
Крупные индустриальные корпорации ведущих стран, Англии в первую
очередь, уже посчитали, что атомная энергия может стать гигантским
бизнесом. В атомной промышленности узрели новое счастье. Атомная
физика не останется в стороне. Она открыто обещает нам это. В июле этого
года на острове Майнау восемнадцать лауреатов Нобелевской премии
объявили в своем обращении дословно следующее: “Наука (т. е. современное
естествознание) — путь к счастью человечества”.
Как обстоит дело с этим утверждением? Возникло ли оно из размышления?
Задумалось ли оно над смыслом атомного века? Нет. Если мы
удовлетворяемся этим утверждением науки, мы остаемся максимально
далеко от осмысления нынешнего века. Почему? Потому что подумать-то мы
и забыли. Потому что мы забыли спросить: благодаря чему современная
техника, основанная на естествознании, способна открывать в природе и
освобождать новые виды энергии?
Это стало возможно благодаря тому, что в течение последних столетий идет
переворот в основных представлениях человек оказался пересаженным в
другую действительность. Эта радикальная революция мировоззрения
произошла в философии Нового времени. Из этого проистекает и
совершенно новое положение человека в мире и по отношению к миру. Мир
теперь представляется объектом, открытым для атак вычисляющей мысли,
атак, перед которыми уже ничто не сможет устоять. Природа стала лишь
гигантской бензоколонкой, источником энергии для современной техники и
промышленности. Это, в принципе техническое, отношение человека к
мировому целому впервые возникло в семнадцатом веке и притом только в
Европе. Оно было долго незнакомо другим континентам. Оно было
совершенно чуждо прошлым векам и судьбам народов.
Сила, скрытая в современной технике, определяет отношение человека к
тому, что есть. Ее господство простирается по всей земле. Человек уже
начинает свое продвижение с земли в мировое пространство. Благодаря
открытию атомной энергии, за какие-нибудь двадцать лет стали известны
такие колоссальные источники энергии, что в обозримом будущем мировые
потребности в энергии любого рода будут удовлетворены навсегда. Скоро
производство энергии, в отличие от добычи угля, нефти, древесины, более не
будет привязано к какой-то определенной стране или континенту. В
обозримом будущем в любом месте земного шара можно будет построить
атомную электростанцию.
Таким образом, теперь основная проблема науки и техники заключается уже
не в том, где достать достаточное количество топлива. Сейчас решающая
проблема звучит так: каким образом мы сможем обуздать и как мы научимся
управлять этими невероятно гигантскими атомными энергиями так, чтобы
гарантировать человечеству, что эти громадные энергии внезапно — даже в
случае отсутствия военных действий — в каком-нибудь месте не вырвутся,
“не удерут” и не уничтожат все?
Если обуздание атомной энергии будет успешным, — а оно будет успешным!
— то в развитии технического мира начнется совершенно новая эра. То, что
нам сейчас известно как техника фильмов и телевидения, транспорта,
особенно воздушного, средств информации, медицинская и пищевая
промышленность, является, вероятно, лишь жалким началом. Грядущие
перевороты трудно предвидеть. Между тем технический прогресс будет идти
вперед все быстрее и быстрее и его ничем нельзя остановить. Во всех сферах
своего бытия человек будет окружен все более плотно силами техники. Эти
силы, которые повсюду ежеминутно требуют к себе человека, привязывают
его к себе, тянут его за собой, осаждают его и навязываются ему под видом
тех или иных технических приспособлений, — эти силы давно уже переросли
нашу волю и способность принимать решения, ибо не человек сотворил их.
Но к новому миру техники принадлежит также и то, что его достижения
самым быстрым образом становятся всем известны и привлекают всеобщий
интерес. Так сегодня все могут прочитать то, что говорится в этой речи о
технике в любом умело издаваемом иллюстрированном журнале, или
услышать эту речь по радио. Но одно дело услышать или прочитать, т. е.
просто узнать что-то, другое дело — осознать, т. е. осмыслить то, что мы
услышали или прочитали.
Этим летом в очередной раз состоялась международная встреча лауреатов
Нобелевской премии 1955 года в Линдау. Американский химик Стэнли
сказал на ней следующее: “Близок час, когда жизнь окажется в руках химика,
который сможет синтезировать, расщеплять и изменять по своему желанию
субстанции жизни”. Мы приняли к сведению это утверждение, мы даже
восхищаемся дерзостью научного поиска, при этом не думая. Мы не
останавливаемся, чтобы подумать, что здесь с помощью технических средств
готовится наступление на жизнь и сущность человека, с которым не
сравнится даже взрыв водородной бомбы. Так как даже если водородная
бомба и не взорвется и жизнь людей на земле сохранится, все равно зловещее
изменение мира неизбежно надвигается вместе с атомным веком.
Страшно на самом деле не то, что мир становится полностью
технизированным. Гораздо более жутким является то, что человек не
подготовлен к этому изменению мира, что мы еще не способны встретить
осмысляющее, мысля то, что в сущности лишь начинается в этом веке атома.
Затормозить исторический ход атомного века или же направить его не может
ни один человек, ни одна группа людей, ни одна комиссия выдающихся
государственных деятелей, ученых и инженеров, ни одна конференция
ведущих деятелей промышленности и торговли. Ни одна человеческая
организация не способна подчинить себе этот процесс.
Так будет ли человек, отдан во власть неудержимых сил техники,
неизмеримо превосходящих его силы, растерянным и беззащитным? Это и
произойдет, если человек окончательно откажется от того, чтобы решительно
противопоставить калькуляции осмысляющее мышление. Но лишь только
осмысляющее мышление пробуждается, оно должно работать непрерывно,
по любому, самому незначительному поводу — так же и здесь, и сейчас, на
этом памятном собрании, поскольку оно дает нам возможность осмыслить
то, что находится под особой угрозой в атомный век, а именно:
укорененность произведений человека.
Поэтому мы задаем такой вопрос: сможет ли человек с утратой старой
укорененности обрести новую почву для коренения и стояния, такую почву и
основу, на которой будут по-новому процветать сущность человека и все его
труды даже в атомный век?
Что же станет основой и почвой для будущего коренения? Возможно, то, что
мы ищем, очень близко, так близко, что мы его просто проглядели. Ведь путь
к тому, что близко, для нас, людей, всегда самый дальний и потому самый
трудный. Это путь размышления. Осмысляющее мышление требует от нас не
цепляться односторонне за какое-то одно представление, сойти с привычной
мысленной колеи, по которой мы мчимся все дальше и дальше.
Осмысляющее мышление требует от нас, чтобы мы занялись тем, что, на
первый взгляд, вовсе не имеет к нему отношения.
Давайте испытаем осмысляющее мышление. Приспособления, аппараты и
машины технического мира необходимы нам всем — для одних в большей,
для других — в меньшей мере. Было бы безрассудно вслепую нападать на
мир техники. Было бы близоруко проклинать его как орудие дьявола. Мы
зависим от технических приспособлений, они даже подвигают нас на новые
успехи. Но внезапно, и не осознавая этого, мы оказываемся настолько крепко
связанными ими, что попадаем к ним в рабство.
Но мы можем и другое. Мы можем пользоваться техническими средствами,
оставаясь при этом свободными от них, так что мы сможем отказаться от них
в любой момент. Мы можем использовать эти приспособления так, как их и
нужно использовать, но при этом оставить их в покое как то, что на самом
деле не имеет отношения к нашей сущности. Мы можем сказать “да”
неизбежному использованию технических средств и одновременно сказать
“нет”, поскольку мы запретим им затребовать нас и таким образом
извращать, сбивать с толку и опустошать нашу сущность.
Но если мы скажем так одновременно “да” и “нет” техническим
приспособлениям, то разве не станет наше отношение к миру техники
двусмысленным и неопределенным? Напротив. Наше отношение к миру
техники будет чудесно простым и спокойным. Мы впустим технические
приспособления в нашу повседневную жизнь и в то же время оставим их
снаружи, т. е. оставим их как вещи, которые не абсолютны, но зависят от
чего-то высшего. Я бы назвал это отношение одновременно “да” и “нет”
миру техники старым словом — “отрешенность от вещей”[8].
Это отношение позволяет увидеть вещи не только технически, оно даст нам
прозреть то, что производство и использование машин требует от нас другого
отношения к вещам, которое не бес-смысленно. Например, мы поймем, что
земледелие
и сельское хозяйство превратились в механизированную пищевую
промышленность, что и здесь, как и в других областях происходит
глубочайшее изменение в отношении человека к природе и к миру перед
ним. Но смысл того, что правит этим изменением, по-прежнему темен.
Итак, во всех технических процессах господствует смысл, который
располагает всеми человеческими поступками и поведением, и не человек
выдумал или создал этот смысл. Мы не понимаем значения зловещего
усиления власти атомной техники. Смысл мира техники скрыт от нас. Но
давайте же специально обратимся и будем обращены к тому, что этот
сокрытый смысл повсюду нас затрагивает в мире техники, тогда мы
окажемся внутри области, которая и прячется от нас, и, прячась, выходит к
нам. А то, что показывается и в то же время уклоняется — разве не это мы
называем тайной? Я называю поведение, благодаря которому мы
открываемся для смысла, потаенного в мире техники, открытостью для
тайны[9].
Отрешенность от вещей и открытость для тайны взаимно принадлежны. Они
предоставят нам возможность обитать в мире совершенно иначе. Они
обещают нам новую основу и почву для коренения, на которой мы сможем
стоять и выстоять в мире техники, уже не опасаясь его.
Отрешенность от вещей и открытость тайне дадут нам увидеть новую почву,
которая однажды, быть может, даже возвернет в ином обличье старую,
сейчас так быстро исчезающую.
Правда, пока (и мы не знаем, как долго это будет продолжаться) человек на
этой земле находится в опасном положении. Почему? Потому лишь, что
внезапно разразится третья мировая война, которая приведет к полному
уничтожению человечества и разрушению земли? Нет. Наступающий
атомный век грозит нам еще большей опасностью, как раз в том случае, если
опасность третьей мировой войны будет устранена. Странное утверждение,
не так ли? Разумеется, странное, но только до тех пор, пока мы не мыслим.
В каком смысле верно это утверждение? А в том, что подкатывающая
техническая революция атомного века сможет захватить, околдовать,
ослепить и обмануть человека так, что однажды вычисляющее мышление
останется единственным действительным и практикуемым способом
мышления.
Тогда какая же великая опасность надвигается тогда на нас? Равнодушие к
размышлению и полная бездумность, полная бездумность, которая может
идти рука об руку с величайшим хитроумием вычисляющего планирования и
изобретательства. А что же тогда? Тогда человек отречется и отбросит свою
глубочайшую сущность, именно то, что он есть размышляющее существо.
Итак, дело в том, чтобы спасти эту сущность человека. Итак, дело в том,
чтобы поддерживать размышление.
Однако отрешенность от вещей и открытость для тайны никогда не придут к
нам сами по себе. Они не выпадут на нашу долю случайно. Они уродятся
лишь из неустанного и решительного мышления.
Возможно, сегодняшнее памятное собрание подвигнет нас на это мышление.
И если мы откликнемся на этот призыв, то мы будем думать о Конрадине
Крейцере, размышляя об истоках его творчества, о его корнях, которые
питала силами его родина. И это именно мы мыслим, когда мы осознаем себя
здесь и сейчас людьми, призванными найти и подготовить путь в атомный
век, через него и из него.
Если отрешенность от вещей и открытость для тайны пробудятся в нас, то
мы выйдем в путь, который ведет нас к новой почве для коренения и стояния.
На этой почве творчество может пустить новые корни и принести плоды на
века.
Так в другой век и несколько по-другому сбываются вновь слова Иогана
Петера Гебела:
“Мы растения, которые — хотим ли мы осознать это или нет — должны
корениться в земле, чтобы, поднявшись, цвести в эфире и приносить плоды”.
Примечания
[1] Эта речь была произнесена на праздновании 175-й годовщины со дня рождения композитора
Конрадина Крейцера 30 октября 1955 г. в Мескирхе, опубликована в 1959 году совместно с
диалогом между ученым, филологом и учителем “К вопросу об отрешенности” (Из разговора на
проселочной дороге) (“Zur Erorterung der Gelassenheit” (Aus einern Feidgesprach uber das Denken)
указ. издание. S. 31—73). Подробная запись этого разговора была сделана еще в 1944—1945 гг.,
потом он был значительно сокращен. В разговоре проблематика, изложенная в речи памяти К.
Крейцера, доступно, но декларативно, без уточнения свойств осмысляющего мышления,
прорабатывается более детально и глубоко.
[2] Конрадин Крейцер (1780 — 1849) — плодовитый композитор, родился в Мескирхе, родном
городе М. Хайдеггера, некоторые его хоры и оперы и сейчас хорошо известны в ФРГ.
[3] Gedenkfeier — торжество в память кого-либо, образовано от глагола gedenken — помнить,
вспоминать кого-либо, который также имеет значение — думать, отсюда — требование М.
Хайдеггера думать на торжестве в память К. Крейцера.
[4] das besinniiche Nachdenken — “думание вслед за чем-то (после чего-то)”.
[5] das denkende d. h. sinnende Wesen.
[6] boden-standig — коренной, местный, оседлый (дословный перевод — “стоящий на почве”).
[7] die Bodenstandigkeit — оседлость, существительное, образованное от bodenstandig.
[8] die Gelassenheit zu den Dingen — неологизм M. Хайдеггера. Современное значение Gelassenheit
— спокойствие, хладнокровие, невозмутимость (образовано от глагола lassen оставлять, давать
возможность, позволять, разрешать кому-либо делать что-то), в средневековой немецкой мистике
оно использовалось в смысле “оставить мир в покое, таким, какой он есть, не мешать
естественному течению вещей и предаться богу” (так использовал это слово Мейстер Экхарт (1260
— 1228). Другие варианты перевода: освобожденность, освобождение, свобода от вещей
(техники).
[9] Die Offenheit fur das Geheimnis.
Текст 2
И. Кант
МЕТАФИЗИКА НРАВОВ (фрагменты работы)
ЧАСТЬ 6. МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ НАЧАЛА УЧЕНИЯ О ДОБРОДЕТЕЛИ
ВВЕДЕНИЕ В УЧЕНИЕ О ДОБРОДЕТЕЛИ
В древние времена этика означала учение о нравственности вообще
(philosophia moralis), которое также называли учением о долге. Позднее
нашли благоразумным перенести это название на одну лишь часть учения о
нравственности, а именно на учение о долге, который не подчинен внешним
законам (это учение немцы предпочитают называть учением о добродетели);
так что теперь система общего учения о долге делится на учение о праве
(lus), которое имеет дело с внешними законами, и на учение о добродетели
(Ethica), которое с ними дела не имеет.
I. Рассмотрение понятия учения о добродетели
Понятие долга есть уже само по себе понятие о каком-то принуждении
свободного произвола со стороны закона. Это принуждение может быть
внешним принуждением или самопринуждением. Моральный императив
провозглашает через свое категорическое суждение (безусловное
долженствование) это принуждение, которое, таким образом, относится не к
разумным существам вообще (среди которых могут быть и святые), а к
людям как к разумным естественным существам, которые достаточно
несвяты, чтобы у них могло возникнуть желание нарушить моральный закон,
хотя они сами признают его авторитет и, даже когда они соблюдают его,
делают это неохотно (борясь со своими склонностями), в чем, собственно, и
состоит принуждение. Но так как человек есть свободное (моральное)
существо, то понятие долга не может содержать никакого иного
принуждения, кроме самопринуждения (посредством одного лишь
представления о законе), когда принимают в соображение внутреннее
определение воли (мотивы), ибо только так становится возможным соединять
принуждение (если бы оно даже было внешним) со свободой произвола, но в
таком случае понятие долга будет этическим понятием.
Естественные побуждения, следовательно, содержат в душе человека
препятствия исполнению долга и (отчасти значительные)
противодействующие силы, и человек должен считать себя способным
противоборствовать им и при помощи разума не в будущем, а именно теперь
одолеть их (также мыслью), т. е. уметь делать то, что он должен делать
согласно безусловному велению закона.
Способность и твердое намерение оказать сопротивление сильному, но
несправедливому врагу есть храбрость (fortitude), а в отношении врага
нравственного образа мыслей в нас есть добродетель (virtus, fortitude moralis).
Следовательно, учение о добродетели есть общее учение о долге в той части,
которая подводит под законы не внешнюю, а внутреннюю свободу.
Учение о праве имело дело только с формальным условием внешней свободы
(благодаря согласию с самим собой, когда его максима становилась
всеобщим законом. Тем не менее, однако, человек в то же время считает себя
как моральное существо — когда он рассматривает себя объективно, к чему
он определен практическим разумом (с точки зрения человечества в его
собственном лице),— достаточно святым, чтобы неохотно нарушать
внутренний закон; ведь нет такого нечестивого человека, который, нарушая
этот закон, не ощущал бы в себе сопротивления и не чувствовал бы
отвращения к себе, при котором он должен принуждать самого себя. Что
человек на таком распутье (где легенда поставила Геракла между
добродетелью и наслаждением) охотнее подчиняется склонности, чем
закону,— это явление объяснить невозможно, так как то, что происходит, мы
можем объяснить, только выводя его из некоторой причины по законам
природы; но при этом мы не могли бы мыслить произвол свободным.— Это
взаимно противоположное самопринуждение и его неотвратимость
позволяют нам, однако, познавать непостижимое свойство самой свободы
(законом), т. е. с правом. Этика, напротив, дает нам еще некую материю
(предмет свободного произвола), цель чистого разума, которая
представляется также как объективно необходимая цель, т. е. как долг для
человека.— В самом деле, так как чувственные склонности влекут к целям
(как к материи произвола), которые могут быть противны долгу, то
законодательствующий разум сможет противиться их влиянию не иначе как
опять-таки при помощи противоположной моральной цели, которая,
следовательно, должна быть дана а priori независимо от склонности.
Цель есть предмет произвола (разумного существа), посредством
представления о котором произвол определяется к действию для создания
этого предмета,— Правда, я могу быть принужден другими совершать те или
иные поступки, направленные как средства к определенной цели, но не могу
быть принужден другими к тому, чтобы иметь ту или иную цель; лишь я сам
могу сделать что-то своей целью.— Но то, что я обязан делать своей целью
нечто лежащее в понятиях практического разума, стало быть, иметь помимо
формального основания определения произвола (как его содержит право)
еще и материальную цель, такую, которую можно было бы противопоставить
цели, возникающей из чувственных побуждений,— это было бы понятием
цели, которая сама по себе есть долг. Но учение о нем имело бы отношения
не к учению о праве, а к этике, которая одна лишь содержит в своем понятии
самопринуждение согласно моральным законам.
На этом основании этика может быть определена как система целей чистого
практического разума.— Цель и долг составляют основу различия между
двумя частями общего учения о нравственности. То обстоятельство, что
этика содержит обязанности, для исполнения которых мы не можем быть
(физически) принуждены другими, есть лишь следствие того, что она
представляет собой учение о целях, так как принуждение к тому, чтобы
иметь или ставить перед собой цель, противоречило бы самому себе.
Что этика есть учение о добродетели (doctrina officiorum virtutis), следует из
данной выше дефиниции, сопоставленной с обязанностью (Verpflichtung)
добродетели, особенность которой мы только что показали.— Нет иного
определения произвола, способного уже в силу своего понятия не
поддаваться принуждению, даже физическому, со стороны произвола других,
чем определение к цели. Другой может, правда, принудить меня делать то,
что не составляет моей цели (а есть лишь средство для [достижения] цели
другого), но он не может заставить меня сделать ее моей целью; и все же я не
могу иметь какую-либо цель, если я не сделаю ее моей. Последнее
противоречит самому себе: оно есть акт свободы, который вместе с тем не
свободен.— Но ставить себе цель, которая в то же время есть долг,— это не
противоречие: в таком случае я сам себя принуждаю, что вполне совместимо
со свободой *.— Но вопрос теперь в том, как возможна такого рода цель?
Ведь возможности понятия вещи (что это понятие не противоречит самому
себе) еще недостаточно для допущения возможности самой вещи
(объективной реальности понятия).
II. Рассмотрение понятия цели, которая есть в то же время долг
Отношение цели к долгу можно мыслить двояко: или, исходя из цели найти
максиму сообразных с долгом поступков, или, наоборот, начиная с максимы,
найти цель, которая есть в то же время долг.— Учение о праве идет по
первому пути. Свободному произволу каждого предоставляется решить,
какую цель он намерен поставить себе для своего поступка. Но максима
произвола определена a priori, а именно что свобода совершающего поступки
совместима со свободой каждого другого, сообразной со всеобщим законом.
Чем меньше человек может быть принужден физически и чем больше,
наоборот, он может быть принужден морально (одним лишь представлением
о долге), тем он свободнее.— Например, если человек, достаточно
решительный и твердый, не отказывается от задуманного им развлечения,
какие бы вредные последствия этого ему ни рисовали, но при мысли о том,
что он в таком случае не выполнит какой-то служебный долг или не сможет
позаботиться о больном отце, без колебаний оставит свое намерение, хотя и
весьма неохотно, то именно тем он доказывает в высшей степени свою
свободу, что не может противостоять голосу долга.
Этика, однако, идет по противоположному пути. Ей нельзя исходить из
целей, которые может ставить себе человек, и сообразно этому
распоряжаться максимами, которые он должен принять, т. е. его долгом, ведь
[иначе] это было бы эмпирическими основаниями максимы, которые не дают
понятия долга, так как оно (категорическое долженствование) имеет свои
корни только в чистом разуме; точно так же если взять максимы согласно
указанным целям (которые все корыстны), то, собственно, и речи не может
быть о каком-либо понятии долга.— Следовательно, в этике понятие долга
должно вести к целям, а максимы в отношении целей, которые нам следует
себе ставить, должны быть обоснованы согласно моральным
основоположениям.
Не решая вопроса о том, что же это за цель, которая сама по себе есть долг, и
как она возможна, здесь необходимо лишь показать, что такого рода долг
называется долгом добродетели и почему он так называется.
Всякому долгу соответствует некое право, рассматриваемое как правомочие
(facultas moralis generatim), но не всякому долгу соответствуют права другого
(facultas iuridica) принуждать кого-то; называются они особо правовыми
обязанностями.— Точно так же всякой этической обязательности
соответствует понятие добродетели, но не всякий этический долг есть
поэтому долг добродетели. Не будет этическим долг, который не имеет
отношения ни к какой-нибудь цели (материи, объекту произвола), ни к
формальному в нравственном определении воли (например, что сообразный с
долгом поступок должен быть совершен также из чувства долга). Только
цель, которая есть в то же время долг, может быть названа долгом
добродетели. Поэтому имеется не один такой долг, а множество (имеются и
различные добродетели); относительно же долга можно мыслить лишь один
добродетельный образ мыслей, но действительный для всех поступков.
Долг добродетели и правовой долг отличаются друг от друга тем, что для
последнего морально возможно внешнее принуждение, первый же покоится
только на свободном самопринуждении. Для конечных святых существ
(которые никогда не могут соблазниться нарушением долга) нет учения о
добродетели, для них есть лишь учение о нравственности, которое есть
автономия практического разума, в то время как первое есть также
автократия практического разума, т. е. содержит если не непосредственно
воспринимаемое, то все же правильно выведенное из нравственного
категорического императива сознание способности справляться со своими не
повинующимися закону склонностями, так что человеческая моральность на
своей высшей ступени может быть не более как добродетелью, даже если бы
она была совершенно чистой (полностью свободной от влияния всех чуждых
долгу мотивов), ибо тогда она как идеал (которому должно постоянно
приближаться) обычно персонифицируется поэтически под именем мудреца.
Добродетель нельзя также определять и оценивать просто как навык (как это
говорится в удостоенном награды сочинении пастора Кохиуса) и
приобретенную длительным упражнением привычку к морально добрым
поступкам. В самом деле, если добродетель не есть результат воздействия
обдуманных, твердых и все более чистых основоположений, то она, как и
любой другой механизм технически практического разума, не вооружена ни
на все случаи, ни для достаточного предохранения себя от изменений,
которые могут быть вызваны новыми соблазнами.
III. На каком основании мыслят себе цель, которая есть в то же время
долг
Цель есть такой предмет свободного произвола, представление о котором
определяет этот произвол к поступку, благодаря которому предмет создается.
Следовательно, каждый поступок имеет свою цель, и так как никто не может
иметь какую-то цель, не делая самого предмета своего произвола целью, то
иметь цель поступков есть акт свободы совершающего поступки субъекта, а
не действие природы. Но так как этот акт, определяющий цель, есть
практический принцип, который предписывает не средства (стало быть, он не
обусловлен), а самое цель (следовательно, он безусловен), то этот принцип
есть категорический императив чистого практического разума, стало быть
такой, который связывает понятие долга с понятием цели вообще.
А такая цель и соответствующий ей категорический императив должны
существовать. В самом деле, так как бывают свободные поступки, то должны
быть и цели, на которые как на объект должны быть направлены эти
поступки. Однако среди этих целей должны быть и такие, которые суть в то
же время (т. е. по своему понятию) долг.— Действительно, если бы не было
таких целей, то, поскольку не бывает бесцельных поступков, все цели
оказались бы для практического разума всегда лишь средствами для других
целей и категорический императив был бы невозможен, а это уничтожает
всякое учение о нравственности.
Здесь, следовательно, идет речь не о целях, которые человек ставит себе под
влиянием чувственных побуждений своей природы, а о таких предметах
свободного, подчиненного своим законам произвола, которые человек
должен делать своей целью. Первые можно назвать техническим
(субъективным), собственно прагматическим, учением о цели, содержащим
правило благоразумия в выборе целей, вторые же — моральным
(объективным) учением о цели; такое различение здесь, однако, излишне, так
как учение о нравственности уже по своему понятию ясно отличается от
учения о природе (здесь — от антропологии); последнее покоится на
эмпирических принципах, моральное же учение о цели, в котором трактуется
о долге, покоится на принципах, данных a priori в чистом практическом
разуме.
IV. Какие цели суть в то же время долг?
Таковы: собственное совершенство и чужое счастье. Их нельзя заменять друг
другом, равно как нельзя, с одной стороны, собственное счастье и, с другой
— совершенство другого делать целями, которые сами по себе были бы
долгом одного и того же лица.
Действительно, собственное счастье есть цель, которую хотя и имеют все
люди (в силу побуждений их природы), но никогда нельзя рассматривать как
долг, не впадая в противоречие с самим собой. То, что каждый неизбежно
уже сам желает, не подпадает под понятие о долге', ведь долг — это
принуждение к неохотно принятой цели. Поэтому было бы противоречием
сказать: человек обязан всеми силами содействовать собственному счастью.
Точно так же противоречиво ставить себе целью совершенство другого и
считать себя обязанным содействовать этому. В самом деле, совершенство
другого человека как лица состоит именно в том, что он сам способен
ставить себе цель по своим собственным представлениям о долге; поэтому
противоречиво требовать (сделать моим долгом), чтобы я сделал то, что
может сделать только другой человек сам.
Объяснение этих двух понятий
А . Собственное совершенство
Слово совершенство часто толкуется ложно. Иногда оно понимается как
принадлежащее трансцендентальной философии понятие целокупности
многообразного, которое, взятое в целом, составляет вещь, а [иногда] также
как принадлежащее телеологии понятие, которое означает согласие свойств
вещи с некоей целью. В первом значении совершенство можно было бы
назвать количественным (материальным), во втором — качественным
(формальным). Первое может быть только единственным (ведь целокупность
присущего одной вещи одна). Качественных же совершенств в одной и той
же вещи может быть несколько. Об этом совершенстве, собственно, и будет
идти здесь речь.
Когда о совершенстве, присущем человеку вообще (собственно
человечеству), говорят, что делать его своей целью есть сам по себе долг, то
это совершенство необходимо усмотреть в том, что может быть результатом
действия человека, а не в том, что есть просто дар и которым человек обязан
природе; ведь иначе оно не было бы долгом. Следовательно, совершенство
может быть не чем иным, как культурой способности человека (или
культурой природных задатков), в которой рассудок как способность [давать]
понятия, стало быть и понятия, касающиеся долга, есть высшая способность,
но в то же время и культурой воли (нравственного образа мыслей) для
удовлетворения всякого долга. 1. Долг человека собственными усилиями
выйти из [состояния] первобытности своей природы, из [состояния]
животности (quoad actum), и все выше подниматься к человеческому
[состоянию], только благодаря которому он и способен ставить себе цели,
восполнять недостаток своего знания и исправлять свои ошибки; и это не
совет технически практического разума для иных его намерений (умения), а
безусловное предписание морально практического разума, который делает
эту цель для него долгом, дабы он был достоин человеческого, которое есть в
нем. 2. Поднять культуру своей воли до самого чистого добродетельного
образа мыслей, когда закон становится также мотивом его сообразных с
долгом поступков, и повиноваться закону из чувства долга — это есть
внутреннее морально практическое совершенство, которое, будучи чувством
действия, оказываемого законодательствующей в нем волей на способность
поступать согласно ей, называется моральным чувством, как бы особым
чувством (sensus moralis), которое часто, правда, ложно толкуется
(missbraucht) как мистическое, как если бы оно (подобно гению Сократа)
предшествовало разуму или вообще могло бы обойтись без его суждения, но
все же есть нравственное совершенство — делать своей каждую отдельную
цель, которая есть в то же время долг.
В. Счастье другого
Человеческой природе неотъемлемо присуще желать себе счастья и искать
его, т. е. удовлетворенность своим состоянием, если есть уверенность, что
это состояние будет продолжаться. Но именно поэтому оно не цель, которая
есть в то же время долг.— Так как некоторые проводят различие между
моральным и физическим счастьем (из которых первое состоит в
удовлетворенности собой как лицом и своим нравственным поведением,
следовательно, тем, что делают, второе же — в удовлетворенности тем, чем
нас одарила природа, стало быть тем, что мы вкушаем как дар другого),— то,
не исследуя здесь ложного толкования слова (которое уже содержит в себе
противоречие), необходимо заметить, что первый способ восприятия
относится исключительно к предыдущей рубрике, а именно к рубрике
совершенства.— В самом деле, тот, кто должен чувствовать себя счастливым
в одном лишь сознании своей порядочности, уже обладает тем
совершенством, которое в предыдущей рубрике было определено как цель,
которая есть в то же время долг.
Поэтому если речь идет о счастье, способствовать достижению которого как
моей цели должно быть долгом, то это должно быть счастье других людей,
чью (дозволенную) цель я тем самым делаю также и моей. Пусть люди сами
судят о том, что составляет счастье для них; но и я вправе отвергать кое-что
из того, что они считают своим счастьем, а я таковым не считаю, если они к
тому же не имеют права требовать этого от меня как своего.
Противопоставлять же указанной цели некую воображаемую обязательность
того, что я должен также позаботиться о своем собственном (физическом)
счастье и сделать таким образом долгом (объективной целью) мою
естественную и чисто субъективную цель, есть лишь мнимое, многократно
приводимое возражение против произведенного выше деления обязанностей
(см. IV) и требует разъяснения.
Неприятности, боль и недостатки — большое искушение нарушить свой
долг. Достаток, сила, здоровье и благополучие вообще, противостоящие
[внешнему] влиянию, также могут как будто бы рассматриваться как цели,
которые суть в то же время долг, а именно содействовать собственному
счастью, а не стремиться лишь к счастью других.— Однако в таком случае
это не цель, а нравственность субъекта, и устранение препятствий к этому
есть лишь дозволенное средство, так как никто другой не имеет права
требовать от меня пожертвовать моей не неморальной целью. Стремиться к
достатку для себя непосредственно не есть долг; но косвенно это, пожалуй,
может быть долгом, например, отвратить бедность как сильное искушение
предаться порокам. Но в таком случае это не мое счастье, а моя
нравственность, сохранять нерушимость которой есть моя цель и в то же
время мой долг.
VI . Этика дает законы не для поступков, a лишь для максим поступков
Понятие долга имеет непосредственное отношение к закону (хотя бы я и
отвлекался от всякой цели как материи закона); ведь на это уже указывает
формальный принцип долга в категорическом императиве: «Поступай так,
чтобы максима твоего поступка могла стать всеобщим законом». Разница
лишь в том, что в этике закон мыслится как закон твоей собственной воли, а
не воли вообще, которая могла бы быть и волей других, и в таком случае мы
имели бы правовой долг, который не принадлежит к области этики.—
Максимы здесь рассматриваются как такие субъективные основоположения,
которые только пригодны для всеобщего законодательства, а это лишь
негативный принцип (не противоречить закону).— Но каким образом в таком
случае может существовать закон для максимы поступков?
Только относящееся к этике понятие цели, которая есть в то же время долг,
обосновывает закон для максим поступков, так как субъективная цель
(которую имеет каждый) подчинена объективной цели (к которой должен
стремиться каждый). Императив: «Ты должен ставить себе целью то или это
(например, счастье других)» — касается материи произвола (объекта). Но так
как никакой свободный поступок невозможен, если совершающий этот
поступок не преследовал при этом также какую-нибудь цель (как материю
произвола), то максима поступков как средств для [достижения] целей
должна содержать только условие пригодности для возможного всеобщего
законодательства, если имеется цель, которая есть в то же время долг; между
тем цель, которая есть в то же время долг, может сделать законом обладание
такой максимой, поскольку для максимы достаточно уже одной лишь
возможности быть в согласии со всеобщим законодательством.
В самом деле, максимы поступков могут быть произвольными и
подчиняются лишь ограничивающему условию способности к всеобщему
законодательству как к формальному принципу поступков. Но закон
устраняет произвольное в поступках и этим он отличается от всякой
рекомендации (когда требуется лишь знать наиболее подходящие средства
для [достижения] той или иной цели).
ЧАСТЬ 7 .ЭТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О НАЧАЛАХ
ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ПО ОТНОШЕНИЮ К САМОМУ СЕБЕ ВООБЩЕ.
ВВЕДЕНИЕ. О СОВЕРШЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ ПО ОТНОШЕНИЮ К САМОМУ СЕБЕ
§5 ДОЛГ ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕД САМИСМ СОБОЙ КАК ЖИВОТНЫМ СУЩЕСТВОМ
Если не главный, то во всяком случае первый долг человека перед самим
собой, если рассматривать человека с точки зрения его животности, это —
самосохранение в его животной природе.
Противоположность самосохранения — произвольное или преднамеренное
разрушение своей животной природы, которое можно мыслить как полное
или как частичное.— Полное разрушение — это лишение себя жизни
(autochiria, suicidium). Частичное разрушение можно в свою очередь делить
на материальное, когда лишают себя какой-то неотъемлемой части тела как
органа — искалечение или увечье, и на формальное, когда лишают себя
(навсегда или на время) способности физического (и тем самым косвенно
также морального) применения своих сил — самопоражение.
Так как в этой главе речь идет только о негативных обязанностях,
следовательно, только о неисполнении, то посвященные долгу пункты
должны быть направлены против пороков, противных долгу перед самим
собой.
§6 O ЛИШЕНИИ СЕБЯ ЖИЗНИ
Произвольное лишение себя жизни только тогда можно назвать
самоубийством (homicidium dolosum), когда может быть доказано, что оно
вообще преступление, совершенное по отношению к нашему собственному
лицу или по отношению к другим (например, когда кончает с собой
беременная женщина).
а) Лишение себя жизни есть преступление (убийство). Его можно
рассматривать и как нарушение своего долга перед другими людьми (долга
супругов, родителей перед своими детьми, подчиненного перед своим
начальством или своими согражданами и, наконец, перед богом, чье
доверенное нам место в этом мире человек покидает, не будучи отозванным с
него). Но здесь речь идет только о нарушении долга перед самим собой, а
именно о том, обязан ли человек сохранять свою жизнь просто в качестве
лица и должен ли он признать этот долг перед самим собой, если даже
отвлечься от всех приведенных выше соображений.
Утверждать, что человек может оскорблять себя, кажется нелепым (volenti
non fit iniuria). Поэтому стоик считал преимуществом своей личности
(мудреца) добровольно, со спокойной душой уйти из жизни (как из полного
дыма помещения), не будучи вытесненным ни настоящим злом, ни
опасением будущего зла, поскольку он уже ничем не может быть полезным в
жизни.— Но именно это мужество, эта душевная стойкость, отсутствие
страха смерти и стремление познать нечто, что человек может ценить выше
своей жизни, должны были бы служить ему еще сильнее побудительной
причиной к тому, чтобы не разрушать себя, существо со столь большим
превосходством сил над могущественнейшими чувственными мотивами,
следовательно, не лишать себя жизни.
Человек не может отчуждаться от своей личности, пока дело идет о долге,
следовательно, пока он жив; было бы противоречием иметь правомочие
освобождать себя от всякой обязательности, т. е. свободно поступать так, как
если бы для такого поступка не нужно было быть правомочным. Уничтожать
в своем лице субъект нравственности — это то же, что искоренять в этом
мире нравственность в самом ее существовании, потому что она в человеке, а
ведь лицо есть цель сама по себе; стало быть, распоряжаться собой просто
как средством для любой цели — значит унижать достоинство человечества в
своем лице (homo noumenon), которому ведь и был вверен человек (homo
phaenomenon) для сохранения.
К частичному самоубийству относятся: лишение себя какой-нибудь
неотъемлемой части тела как органа (нанести себе увечье), например
подарить кому-нибудь зуб или продать его, с тем чтобы вставить его в
челюсть другого, или дать себя кастрировать, с тем чтобы в качестве певца
жить более удобно, и т. п. Однако ампутация омертвевшего или грозящего
омертвением органа, вредного для жизни, не есть частичное самоубийство.—
Точно так же удаление части тела, но не органа тела, например волос, нельзя
считать преступлением по отношению к своему собственному лицу, хотя
такое удаление не совсем невинно, если оно задумано ради какого-то
внешнего приобретения.
Казуистические вопросы
Самоубийство ли идти (как Курций) на верную смерть ради спасения
отечества? Следует ли считать преднамеренное мученичество, когда человек
для блага рода человеческого приносит себя в жертву, таким же героическим
подвигом, как смерть ради спасения отечества?
Позволительно ли предупреждать несправедливый смертный приговор
своего властелина самоубийством, даже если он позволяет это (как Нерон
Сенеке)?
Можно ли великому, недавно умершему монарху вменять в вину то, что он
носил с собой быстродействующий яд, по всей вероятности, для того, чтобы,
в случае если в войне, в которой он лично участвует, он попадет в плен, не
быть вынужденным согласиться на условия своего освобождения, которые
могли бы нанести ущерб его государству? Можно ли считать это преступным
намерением, если нет оснований подозревать здесь только гордость?
Человек принял водобоязнь за следствие укуса бешеной собаки и, объявив,
что он знает, что эта болезнь неизлечима, покончил с собой, дабы своим
бешенством (начало которого он уже почувствовал) не сделать несчастными
и других людей, как сказано в написанной им перед смертью записке.
Спрашивается, совершил ли он несправедливость?
Кто решается привить себе оспу, рискует своей жизнью, хотя он это делает
для того, чтобы сохранить ее, и поэтому перед ним гораздо более
затруднительный случай закона долга, чем перед, мореплавателем: этот по
крайней мере не создает сам шторма, которому ему приходится доверяться, в
то время как тот сам навлекает на себя болезнь, подвергая свою жизнь
опасности. Итак, дозволена ли прививка оспы?
§7 О СЛАДОСТРАСТНОМ САМООСКВЕРНЕНИИ
Точно так же как любовь к жизни предназначена от природы для сохранения
отдельного лица, половая любовь предназначена для сохранения рода; это
означает, что каждая из них — естественная цель, под которой понимают
такую связь между причиной и действием, когда причина хотя ей и не
придается для этого рассудок, тем не менее, мыслится по аналогии с ним,
следовательно, как бы преднамеренно порождающей человека.
Спрашивается, подчинено ли применение способности половой любви
какому-нибудь ограничительному закону долга, или же половая любовь, не
ставя перед собой упомянутой цели, вправе применять половые свойства
только ради скотского наслаждения, не нарушая этим какого-либо долга
перед самим собой? В учении о праве доказывается, что человек не может
без особого ограничения по правовому договору пользоваться другим лицом
для такого наслаждения; поэтому два лица и берут на себя взаимные
обязательства. Но здесь вопрос в том, существует ли в отношении этого
наслаждения долг человека перед самим собой, нарушение которого есть
осквернение (не только унижение) человечества в его собственном лице.
Стремление к наслаждению [без правового ограничения] называется похотью
(или просто сладострастием). Порок, возникающий из этого, называется
распутством, а добродетель в отношении этих чувственных побуждений —
целомудрием, которое здесь должно быть представлено как долг человека
перед самим собой. Неестественным следует назвать наслаждение, которое
вызывается не действительным предметом, а лишь создаваемым в себе
воображением об этом предмете, стало быть, вопреки цели. В самом деле,
такое наслаждение порождает вожделение вопреки цели природы, а именно
цели более важной, чем даже цель любви к жизни, так как последняя
стремится лишь к сохранению индивида, а та — к сохранению всего рода.
Что такое противоестественное употребление своих половых свойств (стало
быть, злоупотребление ими) есть нарушение долга перед самим собой, и
притом в высшей степени противоречащее нравственности, тотчас приходит
на ум каждому, задумавшемуся над этим, причем мысль эта вызывает
отвращение до такой степени, что считается безнравственным даже называть
подобный порок его именем,— чего не бывает, когда речь идет о пороке
самоубийства; показывать людям этот порок со всеми его ужасами (в
некотором species facti) можно по крайней мере без всякого смущения — как
если бы человек вообще стыдился быть способным на поведение,
низводящее его до степени скота, так что даже допустимое (разумеется, само
по себе чисто животное) общение между мужчиной и женщиной в браке
обычно требует в цивилизованном обществе много тонкости для того, чтобы
завуалировать его, когда приходится все же говорить о нем.
Однако логическое доказательство недопустимости упомянутого
неестественного и даже просто нецелесообразного употребления своих
половых свойств как нарушения (и притом, если речь идет о первом, то в
высшей степени) долга перед самим собой не так легко дается.— Основание
доказательства заключается, конечно, в том, что человек отказывается от
своей личности (унижая ее), когда употребляет себя лишь как средство для
удовлетворения своих животных инстинктов. Но при этом не объясняется
высокая степень нарушения человеческого в его собственном лице из-за
неестественности такого порока, так как этот порок по своей форме (по
образу мыслей) превосходит, кажется, даже порок самоубийства. Разве
только, что при самоубийстве пренебрежение собой как обузой в жизни не
есть, по крайней мере, отдача себя во власть животного побуждения, а
требует мужества, когда все еще имеется уважение к человечеству в своем
собственном лице; распутство же, когда человек целиком отдается животным
побуждениям, делает его употребляемой, но, тем не менее, и
противоестественной вещью, т. е. отвратительным предметом, и тем самым
лишает его всякого уважения к самому себе.
Казуистические вопросы
Цель природы в совокуплении мужчины и женщины—в продолжении, т. е.
сохранении, рода; поэтому, по меньшей мере, нельзя действовать против
этой цели. Но позволено ли, не принимая во внимание эту цель, такое
совокупление (даже если это происходит в браке)?
Не противно ли цели природы и тем самым долгу перед самим собой со
стороны, как мужчины, так и женщины стремиться употреблять свои
половые свойства во время, например, беременности, или стерильности
женщины (из-за возраста или болезни), или когда у нее нет никакого
влечения? Существует ли дозволяющий закон морально практического
разума, (как бы снисходительно) допускающий при столкновении
определяющих оснований этого разума нечто само по себе недопустимое
ради предупреждения еще большего нарушения? Где тот пункт, начиная с
которого можно считать ограничение обязательности в широком смысле
пуризмом (педантизмом в отношении соблюдения долга, если брать его в
широком смысле) и предоставлять свободу действий животным
наклонностям, не боясь отойти от основанного на разуме закона?
Половое влечение называется также любовью (в самом узком смысле слова)
и в действительности есть величайшее чувственное наслаждение каким-либо
предметом; не просто чувственное наслаждение предметами, которые
нравятся при одном лишь размышлении о них (восприимчивость к ним
называется вкусом), а наслаждение, получаемое от пользования другим
лицом и относящееся, таким образом, к способности желания, и притом к
высшей ее ступени — страсти. Но его нельзя причислять ни к любви
удовольствия, ни к любви благоволения (так как они, скорее, удерживают
человека от плотского наслаждения): оно есть наслаждение особого рода (sui
generis), и пылкость не имеет, собственно, ничего общего с моральной
любовью, хотя пылкость может быть с нею тесно связана, если к ней
присоединяется практический разум со своими ограничивающими
условиями.
§8 О САМОПОРАЖЕНИИ ОТ НЕУМЕРЕННОСТИ В УПОТРЕБЛЕНИИ
СРЕДСТВ УДОВОЛЬСТВИЯ И ПИТАНИЯ
Порок в такого рода неумеренности рассматривается здесь не с точки зрения
вреда или физической боли (таких болезней), которые человек причиняет
себе этим, ибо в таком случае речь шла бы о принципе здоровья и удобства
(следовательно, о принципе счастья), с помощью которого следовало бы
противодействовать этому пороку; но такой принцип мог бы обосновать
вовсе не долг, а только правило благоразумия; во всяком случае ,он не был
бы принципом прямого долга.
Скотская неумеренность в пище есть злоупотребление средствами
удовольствия, из-за чего уменьшается или истощается способность их
интеллектуального применения. Пьянство и обжорство — пороки, которые
подходят под эту рубрику. Человека, находящегося в пьяном состоянии,
следует рассматривать как животное, а не как человека. Перегрузка пищей
делает человека на время неспособным совершать действия, требующие
ловкости и рассудительности.— Что доходить до такого состояния означает
нарушение долга перед самим собой,— это очевидно. Первое из этих
унижений, даже среди животных, вызывается обычно хмельными напитками
и другими одурманивающими средствами, такими, как маковое семя и
прочие продукты растительного царства; оно соблазняет тем, что благодаря
им на короткое время наступает состояние мнимого счастья и беззаботности
и возникает даже воображаемая сила; [затем] наступает разбитость и
слабость и, что хуже всего, становится необходимостью повторять
[применение] этих одурманивающих средств, причем во все большем
объеме. Обжорство есть животное чувственное удовольствие, поскольку оно
превращает чувство лишь в пассивное свойство, и даже воображение не
работает, а ведь при воображении все же происходит деятельная игра
представлений, как это бывает при пьянстве; стало быть, обжорство еще
ближе к животному чувственному удовольствию.
Казуистические вопросы
Можно ли употреблять вино, если не как панегирист, то хотя бы как
апологет, до степени, близкой к опьянению? Ведь оно делает общество более
разговорчивым и тем самым приводит к откровенности.— Или можно
признать за ним ту заслугу, что оно содействует тому, что славил Сенека в
Катоне: virtus eius incaluit mero? Употребление опиума и водки как средств
удовольствия более мерзко, так как они при мнимоприятном состоянии
делают человека безмолвным, скрытным и безучастным, почему они и
дозволены только как лечебное средство. Но кто может определить меру для
человека, который вот-вот перейдет в состояние, когда его взор уже
перестанет видеть какую-либо меру? — Магометанство, полностью
запретившее [употребление] вина, сделало плохой выбор, разрешив взамен
этого употребление опиума.
Пиршество как приглашение по всем правилам к неумеренности в обоих
видах наслаждения помимо чисто физического удовольствия имеет еще
нечто направленное на нравственную цель, а именно держит много людей и
на долгое время во взаимном общении. Но так как множество людей (если их
количество, как говорит Честерфилд, превосходит число муз) позволяет
только небольшое общение (с рядом сидящими), стало быть сама обстановка
противоречит цели взаимного общения, то пиршество всегда побуждает к
безнравственному, а именно к неумеренности, к нарушению долга перед
самим собой, не говоря о физическом вреде перегрузки [пищей], который
может быть устранен врачом. Как далеко простирается нравственное
правомочие принимать такие приглашения к неумеренности?
ЧАСТЬ 8. О ДОЛГЕ ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ КАК
ПЕРЕД ПРИРОЖДЕННЫМ СУДЬЕЙ НАД САМИМ СОБОЙ.
О ПЕРВОМ ВЕЛЕНИИ ВСЯКОГО ДОЛГА ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ
§ 14
Это веление заключается в следующем: познай (исследуй, постигай) самого
себя не по твоему физическому совершенству (по твоей пригодности или
непригодности ко всякого рода угодным тебе или предписываемым тебе
целям), а по моральному совершенству в отношении твоего долга—познай
свое сердце: доброе ли оно или злое, чист ли источник твоих поступков или
нет и что может быть человеку вменено как изначально присущее его
субстанции или как производное (приобретенное или нажитое) и, быть
может, принадлежит к моральному состоянию.
Начало всякой человеческой мудрости есть моральное самопознание,
стремящееся проникать в трудно измеряемые глубины (бездну) сердца. В
самом деле, мудрость, состоящая в согласии воли существа с конечной
целью, нуждается у человека, прежде всего, в развитии стремления устранять
внутренние препятствия (некоей злой, гнездящейся в нем воли), а затем
культивировать никогда не утрачиваемые первоначальные задатки доброй
воли (только нисхождение самопознания в ад прокладывает путь к
обожествлению 37).
§ 15
Это моральное самопознание устранит, во-первых, фанатическое презрение к
самому себе как к человеку (ко всему человеческому роду) вообще, ибо такое
презрение противоречит самому себе. Только благодаря заложенным в нас
прекрасным задаткам добра, делающим человека достойным уважения,
возможно то, что человек считает [в себе] достойным презрения человека
(самого себя, но не человеческое в себе), если он поступает вопреки этим
задаткам.— Во-вторых, моральное самопознание противодействует также
самолюбивой оценке самого себя, когда считают доказательством доброты
сердца одни лишь желания (тем более если они выражены с большой
страстью), так как они сами по себе не превращаются в действия и остаются
бездейственными {молитва также есть лишь желание, внутренне
высказанное божеству). Беспристрастность в суждениях о самом себе при
сравнении с законом и искренность в признании себе своего морального
достоинства или недостойности — это долг перед самим собой,
непосредственно вытекающий из первого веления — из самопознания. ТО,
ЧТО ЕСТЬ ДОЛГ ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ, СЧИТАТЬ
ДОЛГОМ ПЕРЕД ДРУГИМИ
§ 16
Если судить исходя из одного лишь разума, то у человека нет иного долга,
как долг перед человеком (перед самим собой или перед другим); ведь его
долг перед каким-нибудь субъектом есть моральное принуждение со стороны
воли этого субъекта. Принуждающий (обязывающий) субъект должен,
следовательно, быть, во-первых, некоторым лицом, во-вторых, это лицо
должно быть дано как предмет опыта, так как человек должен осуществлять
цель воли этого лица, что может иметь место только во взаимоотношениях
двух существующих людей (ведь одно лишь пустое порождение мысли не
может стать причиной преследования цели). Но из всего нашего опыта мы
знаем только одно существо, которое было бы способно брать на себя долг
(активный или пассивный),— человека. Следовательно, человек может иметь
долг только перед одним существом — перед человеком, и если ему тем не
менее представляется, что у него есть долг перед другим существом, то это
происходит только из-за амфиболии рефлективных понятий, а его мнимый
долг перед другими существами есть лишь долг перед самим собой. К такому
недоразумению его приводит то, что он свой долг в отношении других
существ смешивает с долгом перед этими существами.
Этот мнимый долг можно иметь в отношении вещей (unpersцnliche
Gegenstдnde), а если в отношении лиц, то только абсолютно невидимых
(которые не могут быть ·. представлены внешним чувствам).— Первыми
(внечеловеческими) могут быть чисто природное вещество, часть
органической природы, способная к размножению, но лишенная восприятия,
или часть, одаренная восприятием и произволом (минералы, растения,
животные); вторые могут мыслиться как духовные существа (ангелы, бог).—
Теперь возникает вопрос: имеет ли место отношение долга между этими
двум видами существ и человеком, и какое именно отношение.
§17
В отношении прекрасного, хотя и неживого в природе, склонность к
разрушению (spiritus destructionis) противна долгу человека перед самим
собой, так как это ослабляет или уничтожает в человеке то чувство, которое,
правда, само по себе не морально, но подготовляет весьма способствующую
моральности настроенность чувственности по меньшей мере к тому, чтобы
любить нечто также и не имея в виду какую-либо выгоду (например,
прекрасную кристаллизацию, неописуемую красоту растительного мира).
В отношении живой, хотя и лишенной разума, части тварей насильственное и
вместе с тем жестокое обращение с животными еще более противно долгу
человека перед самим собой, так как этим притупляется сочувствие человека
к их страданиям и ослабляются и постепенно уничтожаются естественные
задатки, очень полезные для моральности в отношениях с другими людьми,
хотя человек имеет право на их быстрое (совершаемое без мучений)
умерщвление или на то, чтобы заставлять их работать напряженно, но не
сверх сил (с такого рода работой и людям приходится мириться).
Мучительные же физические опыты в интересах одной лишь спекуляции,
если цель могла бы быть достигнута и без них, отвратительны.— Даже
благодарность за долголетнюю работу старой лошади или за длительную
службу собаки (как если бы они были членами семьи) есть косвенно долг
человека, а именно в отношении этих животных, но непосредственно она
есть долг человека перед самим собой.
§ 18
В отношении того, что целиком лежит за пределами нашего опыта, но по
своей возможности встречается в наших идеях, например в идее бога, мы
точно так же имеем долг, называемый религиозным долгом, который есть
долг «признания всех наших обязанностей как (instar) божественных
заповедей». Но это не есть сознание долга перед богом. В самом деле, так как
эта идея полностью исходит из нашего собственного разума и создается нами
с теоретической целью, для объяснения целесообразности во вселенной или
для того, чтобы служить мотивом в нашем поведении, то это не есть некое
данное существо, перед которым на нас лежал бы какой-то долг, ибо в таком
случае действительность этого существа должна была бы быть доказана
прежде всего опытом; долг человека перед самим собой—применять эту
неизбежно появляющуюся в разуме идею к моральному закону в нас, где она
нравственно в высшей степени плодотворна. В таком {практическом) смысле
можно это [положение] сформулировать следующим образом: иметь
религию— долг человека перед самим собой.
Вариант 1
Часть 1.
Задание 1. Этому философу свойственно новое отношение к природе и
в этой связи новое понимание целей и задач науки и философии. Он
предлагает реформаторское преобразование в гносеологии своего периода.
Знание должно стать мощным орудием, полагает он, и предлагает свой
метод скрупулезного исследования эмпирической, чувственно
воспринимаемой действительности, положив тем самым начало целому
направлению.
Задание 2. Этот философ стал представителем «критики справа»
классической философской традиции. Идея переосмысления роли и
значения Бога в западно-европейской культуре была выражена им с
радикальных позиций, которая, на его взгляд, потребовала переосмысления
этической проблематики. В предложенных философом идеях
антропологического характера он видел выход из кризисной ситуации
экзистенциального вакуума своего времени.
Часть 2.
Задание 1. «Диалектическое представление о бытии, в рамках
которого допускается идея его субстанциального устройства».
А В
Речь идет о противоположных точках
зрения на понимание мироустройства
в его чувственно-воспринимаемом
выражении, что позволяет
одновременно признавать наличие
единой фундаментальной
первоосновы бытия.
Понимание объективной реальности как
находящейся в постоянном развитии
допускает наличие в нем
фундаментальной неизменной
первоосновы, связывающей всё его
многообразие в целостное единство.
Задание 2. «Категория субстанции как выражение
плюралистического взгляда на бытие, которое позволило
переосмыслить основное положение монизма».
А В
Понимание объективной реальности
как состоящей из множества
первооснов позволяет отвергнуть
представление о том, что в ее основе
находится только одна
первопричина.
Идея о мире, находящемся в постоянном
развитии опровергает представление о его
статичности и неизменности.
1. Антология мировой философии. М., изд. "Мысль", т.1, ч.1, 1969.
2. Гриненко Г.В. История философии: Учебник. – М., 2004
3. Немиpовская Л.З. Философия. М., 1996.
4. Смирнов И.Н., Титов В.Ф. Философия. М., "Аpевазун", 1996.
5. Философский Энциклопедический Словарь. М., 1989.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям