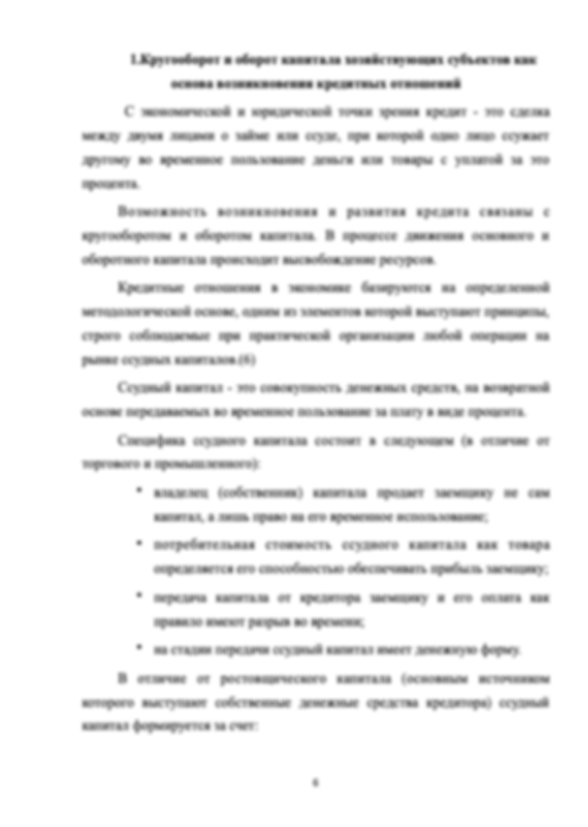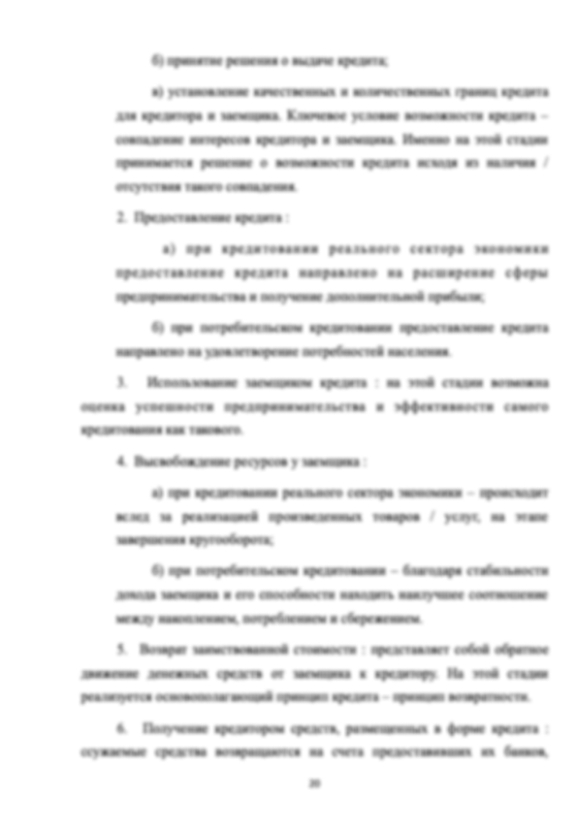Большое спасибо. быстро и качественно.
Информация о работе
Подробнее о работе

Понятие и признаки преступления в уголовном праве России
- 47 страниц
- 2017 год
- 90 просмотров
- 2 покупки
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Понятие преступления – это, возможно, основа всего уголовного права в целом, так как без понимания того, что же является преступлением и в чем его суть невозможно было бы само существование науки уголовного права, как в Российской Федерации, так и в мире в целом.
На современном этапе термин “преступление” можно считать устоявшимся, а его изучение и обсуждение – прерогативой в первую очередь науки уголовного права, в рамках которого можно найти огромное количество различных работ на данную тему. Так, понятие преступления, его признаки и институт множественности исследовали в разное время в своих работах Н.С. Белогриц-Котляревский, А.А. Пионтковский, Н. Д. Сергиевский, Н. С. Таганцев, И. Я. Гонтарь, Ю. А. Денисов, Н.Д. Дурманов, Р. Р. Галиакбаров, А.Н. Игнатов, А.Ф Кистяков-ский, Ю. А. Красиков, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, Ю. И. Ляпунов, В. В. Мальцев, А. И. Марцев, А. В. Наумов, Ю. Е. Пермяков, В. С. Прохоров, С.В Познышев, А.И. Рарог, и другие.
Однако, я считаю ошибочным проводить исследование данного термина только в рамках науки уголовного права, и считаю необходимым рассмотрение не уголовных аспектов становления и формирования понятия преступления, а также его признаков и института множественности. Так, не правильно было бы игнорировать социологические, психологические и исторические предпосылки возникновения и последующего развития и понятия, и признаков преступления, и института множественности, ведь полное и объективное понимание какого-либо явления невозможно без учета всей существующей картины в целом. Глубокий анализ всех предпосылок, интеграция их между собой, могут послужить основой не только для совершенствования науки уголовного права, но и существующего в этой сфере законодательства.
Остановить свое внимание я хочу именно на историческом аспекте и проанализировать в своей работе как же именно происходило становление и развитие понятия преступления, его признаков, а также института множественности.
По моему мнению, понимание понятия, признаков, института множественности в различные исторические периоды с учетом известных аспектов их развития поможет лучше постичь азы и другие категории уголовного права, уяснить их суть и смысл, вложенный законодателем на данном историческом этапе.
Объектом изучения данной работы представляет собой процесс становления и развития понятия преступления, его признаков и института множественности на протяжении всей истории России.
Предметом же исследования выступают нормативные акты историко-правового содержания, научно-монографический и учебный материал, характеризующий ход, содержание развития представлений о преступлении.
Цель данной работы – проанализировать с правовой точки зрения историческое развитие определения понятия преступления, его признаков, а также института множественности, проведенный по следующим направлениям:
• анализ нормативно-правовых актов, действующих на территории современной Российской Федерации в различные исторические промежутки времени;
• изучение доктринального и правоприменительного подходов к понятию преступления, его признакам и институту множественности на протяжении разных временных периодов.
В рамках данных направлений предполагается решить следующие задачи:
• выявить тенденции развития норм о понятии преступления в российском законодательстве за все время существования этого понятия;
• определить признаки преступления, а также дать им историческую и правовую характеристику;
• изучить развитие института множественности преступлений на разных исторических этапах.
В ходе исследования использовались обще- и частнонаучные, а также специальные методы познания.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы.
В первой главе происходит исследование становления и развития понятия преступления с древности до момента принятия современного Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Во второй главе дается историческая характеристика существующим на данный момент признакам преступления, раскрывается их значение и смысл вкладываемый законодателем на различных исторических этапах.
В третьей главе проведен исторический анализ института множественности преступлений, а также его видов.
1. Преступление в истории уголовного права России
1.1 Понятие преступного в дореволюционный период
Впервые законодательное употребление такого термина как преступление можно увидеть лишь в рамках уголовного права Российской империи в 1704 году в названии Указа “О наказании за измену и бунт смертию, а за меншие преступления кнутом и ссылкою в каторжную работу вечно или только на десять лет” , однако фактически это было исключительно упоминание, без какой-либо его трактовки и объяснения в тексте самого указа. Раскрывался и уточнялся же данный термин только лишь в 1714 году в именном указе Указе Петра I Великого "О воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное" в котором уже говорилось следующее: "… понеже многие лихоимства умножились, между которыми и подряды вымышлены и прочие тому подобные дела, которые уже наружу вышли, о чем многие, яко бы оправдая себя, говорят, что сие не заказано было, не разсуждая того, что все то, что вред и убыток государству приключить может, суть преступления" . Проанализировав данный отрывок, можно заметить, что термин “преступление” использовался в контексте другого термина - "лихоимство", который в свою же очередь произошел от словосочетания "лихое дело", которое на протяжении большого отрезка времени обозначало собой преступное деяние. Кроме того, не стоит забывать, что между этими терминами ("лихое дело" и "преступление") использовался еще один термин - "воровство", успешно используемый вплоть до начала XIX в.
Однако, было бы большим заблуждением считать, что до этого термин преступление вообще не был известен на Руси. Так, М.Ф. Владимирский-Буданов утверждает в своих работах, что данный термин был давно известен в древней Руси, а источником этого знания были переводы различных литературных произведений с греческого языка. Однако в то время широкого распространения термин не получил и достаточно долго не использовался. Преступные деяния в то время обозначались совсем другими терминами, а чтобы выяснить какими именно и что под ними подразумевалось необходимо обратиться к дошедшим до наших времен законодательным памятникам древней и средневековой Руси.
Первыми документами, на который стоило бы обратить внимание, это договоры между Киевской Русью и Византией, а именно договоры 911 и 944 годов.
Первый из них - Русско-Византийский договор 911 года (по тексту Радзивилловской летописи) определял установление дружественных отношений между Византией и Киевской Русью, порядок выкупа пленных, наказания за уголовные преступления, совершённые как византийскими, так и русскими купцами, а также ряд других положений, регулирующих уголовные и гражданские отношения между сторонами. В этом договоре можно найти сразу два термина, обозначавших преступное деяние, а именно - "проказа" и "сгрешение". Первое из них - "проказа" – используется в начале статьи 3, в контексте необходимости установления такого договора между Киевской Русью и Византией, в котором оговаривались бы возможные преступления и их правовые последствия. Второй термин - "сгрешение" - употребляется в конце этой же статьи - "будеть казнь, якоже явиться согрешение" - и устанавливает тем самым, что наказание должно быть соразмерно совершенному преступлению. Преступники же в данном договоре обозначаются как "злодеи", что следует из статьи 14, в которой оговариваются условия по выдаче преступников .
Уже через 33 года, в Русско-Византийском договоре 944 года (по тексту Лаврентьевской летописи) применялся другой термин, который обозначал преступное деяние, а именно - "бесчинство". Согласно ему, определялось, что русскому князю необходимо было устанавливать запрет совершать какие-либо преступления тем своим подданным, которые отправлялись на территорию Византии - "творять бещинья в селе ни в стране нашей" . В этом же документе применительно к беззаконию применяются словосочетание "творить криво" и термин "пакости". По поводу защиты потерпевшей кораблекрушение византийской ладьи в статье 8 использовался такой термиин, как "не приобидеть", то есть не совершать относительно данного судна, его пассажиров и груза каких-либо преступлений . В свою очередь по отношению к русским в статье 10, которая устанавливала запрет препятствовать жителям Корсуни ловить рыбу, употреблялся такой оборот как "да не творять им зла", который также подразумевал под собой недопустимость совершения преступлений.
Следующий законодательный памятник, который стоит проанализировать это, конечно, Русская Правда. Русская Правда, как главный источник правовых, социальных и экономических отношений Древнерусского государства, содержит нормы уголовного, наследственного, торгового и процессуального законодательства. С момента её появления, а также и её редакций, стал использоваться другой термин - "обида". Большинство ученых предлагает понимать данный термин как причинение физического и имущественного ущерба частному лицу со стороны другого частного лица.
Что касается Краткой Правды (по Академическому списку), то в ней термин "обида" используется, как правило, в санкции статьи применительно к взиманию денежного штрафа. Так, например, в статье 2, рассказывающей нам о причинении телесных повреждений, говорится следующее: "...то взятии ему за обиду 3 гривне" . В таком же контексте термин "обида" используется в статьях 4, 7, 11, 13, 15 Древнейшей Правды или Правды Ярослава, а также в статьях 29, 33, 34, 37 Домениального Устава или Правды Ярославичей.
В Русской Правде Пространной редакции термин "обида" встречается в статье 23, по которой уплата 12 гривен наступала за удар мечом находящемся в ножнах либо рукоятью , а также в статьях 34, 46, 47, 60, 61. В статье же 59 появляется уже знакомый из Русско-Византийского договора 944 года термин "приобидеть", который использовался в том же смысле, что и ранее.
Кроме того, в Пространной редакции в уставе Владимира Всеволодовича, наряду с термином “обида” начинают употребляться термины "сором" и "мука", которые тем не менее используются также в связи с взиманием денежного штрафа. К примеру, в статье 65, об ударе свободного мужа холопом, устанавливается - "любо ли взятии гривна кун за сором" . Однако ни "сором", ни "мука" не становятся универсальными для обозначения преступного деяния, в отличии от "обиды".
Кроме уже раскрытых терминов, однако, в статье 84 Пространной редакции Русской Правды используется и еще одно словосочетание, обозначающее отдельное преступление, а именно - "пакости дея", употреблявшееся по отношению к уничтожению (забою) чужого скота .
Церковные уставы и грамоты также активно использовали уже рассмотренные термины - "обидеть" или "приобидеть", и “покривить” (очевидно производный термин от словосочетания “творить криво”, известного со времен Русско-Византийского договора 944 года), используемые в данных законодательных документах по поводу неприкосновенности действия церковных судов. Так, устав Великого князя Всеволода гласит: "А кто приобидить суды церковныи, платити ему собою..." , а в Уставе князя Владимира 3-ей редакции звучит: "А кто покривить суд…" .
Кроме использования в законодательных актах, термин "обида" также активно употреблялся в данном временном промежутке и в сложившейся судебной практике. Как пример – в одной из берестяных грамот содержалось: "... Давыда обидя..." , а в грамоте N 474, написанной между 1387 и 1407 гг., использовалось следующее словосочетание: "...Жона моя забижона" .
Однако законодательными актами и судебной практикой применение терминов "обида" и "сором" не ограничивалось. Данные термины можно найти в текстах некоторых международно-правовых договоров Древней Руси. Примером такого договора может выступать Договор Новгорода с Готским берегом и с немецкими городами 1189 - 1199 годов. В нем, в статье 4, говориться следующее: "А оже мужа свяжють без вины, то 12 гривн за сором старых кун". В данном случае термин "сором" обозначает ни что иное, как уже последствие обиды в качестве морального вреда. Подтверждает это следующая статья, а именно 5, в которой говорится: "Оже ударять мужа оружеемь, любо колом, то 6 гривн за рану старые" , и очевидно, что речь идет уже о причинении физического вреда здоровью.
Стоит отметить, однако, что, например, Русская Правда Сокращенной редакции (по Толстовскому IV списку) вообще не содержит вышеперечисленных терминов, как, в принципе, и вообще каких-то других терминов, которые обозначали бы преступные деяния. Это же касается и Новгородской (не позднее 1470 года), и Псковской (1397 года) судных грамот.
Следующим термином, обозначавшим преступное, стал такой термин как "лихое дело", который первый раз употреблялся в Ярлыке татарского хана Бердибека, выданного митрополиту Алексею в ноябре 1357 года. Кроме того, в данном Ярлыке так же был использован термин "лжа", который обозначил целую совокупность преступлений против устоев христианской религии, совершаемых посредством устной речи.
Стоит заметить, что свое "официальное" закрепление термин "лихое дело" получает лишь в Судебнике 1497 г., в ст. 8 "О татбе" он выполняет обобщающую роль, завершая перечисление конкретных видов преступлений. "А доведуть на кого татбу, или разбой, или душегубство, или ябедничество, или иное какое лихое дело, и будет ведомый лихой, и боярину того велети казнити смертною казнью". "Лихой" в Судебнике 1497 г. употребляется в трех значениях: по отношению к преступному деянию - лихому делу, преступнику - лихому человеку и по отношению к имуществу лихого человека - "лихому статку".
Судебник 1550 г. применяет термин "лихое дело" для обозначения преступного уже более широко. Определения "лихой, лихое" применительно как к деянию, так и к деятелю, встречаются в ст. 52, 56, 59, 60, 61, 71. Однако в ст. 24 и 47 по-прежнему, для обозначения преступного, употребляется термин "обида".
Глава 57 Стоглава для обозначения преступного, совершенного в отношении епископа или причетника, или иных церковных людей, применяет термин "досада", т.е. обида в отношении данных лиц, и состоящая в появлении в церкви в алкогольной опьянении, громком смехе, разговорах в церкви, появлении в ней с животными и так далее, за которые "муками казнити", т.е., использовать телесные наказания.
Как отмечает В. А. Рогов, для периода Московской Руси очень трудно подобрать четкий термин для обозначения понятия преступного. Термин "лихое дело", по его мнению, обладает достаточной долей условности, так как характеризует не только само преступление, но и степень его тяжести, а также преступника-профессионала. На это указывает определенная уже выше многоаспектность применения определения "лихой". Кроме этого, например, в Крестоцеловальной записи губных старост середины XVI в. термин "лихое дело" трансформируется в еще одно, более широкое, понятие - "лихо", объединяющее в себе беззаконное и греховное.
Следует отметить, что дальше большое распространение получают также термины "разбойные дела", "татебные дела", "душегубные дела" как наиболее крупные видовые подразделения общеуголовных преступлений, а термин "лихое дело" (как объединяющее определение) в большей степени, применяется именно по отношению к ним.
Термин "воровство" входит в употребление в период правления царя Алексея Михайловича Романова, либо делается уточнение более частного характера - в эпоху действия Соборного Уложения 1649 г. "В литературе появление термина "воровское дело", - пишет В. А. Рогов, - связывалось с необходимостью определить в средневековье понятие преступного и дать его обобщение в практике XVI-XVII вв. Зачастую воровство определялось как родовое понятие для противоправных действий, но не ясно - для каких именно". По мнению же А. В. Лохвицкого, воровство означало очень важное нарушение, соответствующее, например, бунту, измене. "Иногда просто указывали, что в XVII в. воровство равнозначно преступному. Эти подходы не давали ответа на вопрос, почему в одних случаях понятие воровства для обозначения преступного использовалось, а в других - нет. Выход находили в простом утверждении, что средневековое право вообще не могло дать ясных понятий" .
И действительно, впериод с середины XVI в. и до середины XVII в., термин "воровство" не употреблялся как обобщающее понятие преступного, что подтверждается примером ст. 4 Судебника 1589 г., где термин "воровата" используется по отношению к фальсификации судебных документов, т.е. конкретному виду преступного деяния. А в первой половине XVII в. термин "воровство" применялся по отношению к такому преступному деянию, как фальшивомонетничество ("битье лживой монеты"), преступников данной категории именовали "денежные воры". В соответствии с царским Указом "О наказании фальшивомонетчиков" не позднее 10 февраля 1637 г., фальшивомонетчиков предписывалось клеймить. "А для улики вперед указали есмя у тех воров напятнати на щеках, розжегши, а в пятне написати "вор", чтоб такие воры впредь были знатны" . На правой щеке каленым железом выжигалась буква "В", на лбу буква "О", на левой щеке буква "Р".
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Преступление в истории уголовного права России 5
1.1 Понятие преступного в дореволюционный период 5
1.2 Тенденции развития норм о понятии преступления в российском законодательстве советского периода 15
2. Развитие в уголовном праве России признаков преступления 20
2.1 Общественная опасность 20
2.2 Уголовная противоправность 26
2.3 Виновность 28
2.4 Уголовная наказуемость 30
3. Институт множественности преступлений и определение его элементов на различных исторических этапах 32
3.1 Неоднократность преступлений 33
3.2 Совокупность преступлений 34
3.3 Рецидив преступлений 36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 46
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 47
Понятие преступления – это, возможно, основа всего уголовного права в целом, так как без понимания того, что же является преступлением и в чем его суть невозможно было бы само существование науки уголовного права, как в Российской Федерации, так и в мире в целом.
На современном этапе термин “преступление” можно считать устоявшимся, а его изучение и обсуждение – прерогативой в первую очередь науки уголовного права, в рамках которого можно найти огромное количество различных работ на данную тему. Так, понятие преступления, его признаки и институт множественности исследовали в разное время в своих работах Н.С. Белогриц-Котляревский, А.А. Пионтковский, Н. Д. Сергиевский, Н. С. Таганцев, И. Я. Гонтарь, Ю. А. Денисов, Н.Д. Дурманов, Р. Р. Галиакбаров, А.Н. Игнатов, А.Ф Кистяков-ский, Ю. А. Красиков, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, Ю. И. Ляпунов, В. В. Мальцев, А. И. Марцев, А. В. Наумов, Ю. Е. Пермяков, В. С. Прохоров, С.В Познышев, А.И. Рарог, и другие.
Однако, я считаю ошибочным проводить исследование данного термина только в рамках науки уголовного права, и считаю необходимым рассмотрение не уголовных аспектов становления и формирования понятия преступления, а также его признаков и института множественности. Так, не правильно было бы игнорировать социологические, психологические и исторические предпосылки возникновения и последующего развития и понятия, и признаков преступления, и института множественности, ведь полное и объективное понимание какого-либо явления невозможно без учета всей существующей картины в целом. Глубокий анализ всех предпосылок, интеграция их между собой, могут послужить основой не только для совершенствования науки уголовного права, но и существующего в этой сфере законодательства.
Остановить свое внимание я хочу именно на историческом аспекте и проанализировать в своей работе как же именно происходило становление и развитие понятия преступления, его признаков, а также института множественности.
По моему мнению, понимание понятия, признаков, института множественности в различные исторические периоды с учетом известных аспектов их развития поможет лучше постичь азы и другие категории уголовного права, уяснить их суть и смысл, вложенный законодателем на данном историческом этапе.
Объектом изучения данной работы представляет собой процесс становления и развития понятия преступления, его признаков и института множественности на протяжении всей истории России.
Предметом же исследования выступают нормативные акты историко-правового содержания, научно-монографический и учебный материал, характеризующий ход, содержание развития представлений о преступлении.
Цель данной работы – проанализировать с правовой точки зрения историческое развитие определения понятия преступления, его признаков, а также института множественности, проведенный по следующим направлениям:
• анализ нормативно-правовых актов, действующих на территории современной Российской Федерации в различные исторические промежутки времени;
• изучение доктринального и правоприменительного подходов к понятию преступления, его признакам и институту множественности на протяжении разных временных периодов.
В рамках данных направлений предполагается решить следующие задачи:
• выявить тенденции развития норм о понятии преступления в российском законодательстве за все время существования этого понятия;
• определить признаки преступления, а также дать им историческую и правовую характеристику;
• изучить развитие института множественности преступлений на разных исторических этапах.
В ходе исследования использовались обще- и частнонаучные, а также специальные методы познания.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы.
В первой главе происходит исследование становления и развития понятия преступления с древности до момента принятия современного Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Во второй главе дается историческая характеристика существующим на данный момент признакам преступления, раскрывается их значение и смысл вкладываемый законодателем на различных исторических этапах.
В третьей главе проведен исторический анализ института множественности преступлений, а также его видов.
1. Преступление в истории уголовного права России
1.1 Понятие преступного в дореволюционный период
Впервые законодательное употребление такого термина как преступление можно увидеть лишь в рамках уголовного права Российской империи в 1704 году в названии Указа “О наказании за измену и бунт смертию, а за меншие преступления кнутом и ссылкою в каторжную работу вечно или только на десять лет” , однако фактически это было исключительно упоминание, без какой-либо его трактовки и объяснения в тексте самого указа. Раскрывался и уточнялся же данный термин только лишь в 1714 году в именном указе Указе Петра I Великого "О воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное" в котором уже говорилось следующее: "… понеже многие лихоимства умножились, между которыми и подряды вымышлены и прочие тому подобные дела, которые уже наружу вышли, о чем многие, яко бы оправдая себя, говорят, что сие не заказано было, не разсуждая того, что все то, что вред и убыток государству приключить может, суть преступления" . Проанализировав данный отрывок, можно заметить, что термин “преступление” использовался в контексте другого термина - "лихоимство", который в свою же очередь произошел от словосочетания "лихое дело", которое на протяжении большого отрезка времени обозначало собой преступное деяние. Кроме того, не стоит забывать, что между этими терминами ("лихое дело" и "преступление") использовался еще один термин - "воровство", успешно используемый вплоть до начала XIX в.
Однако, было бы большим заблуждением считать, что до этого термин преступление вообще не был известен на Руси. Так, М.Ф. Владимирский-Буданов утверждает в своих работах, что данный термин был давно известен в древней Руси, а источником этого знания были переводы различных литературных произведений с греческого языка. Однако в то время широкого распространения термин не получил и достаточно долго не использовался. Преступные деяния в то время обозначались совсем другими терминами, а чтобы выяснить какими именно и что под ними подразумевалось необходимо обратиться к дошедшим до наших времен законодательным памятникам древней и средневековой Руси.
Первыми документами, на который стоило бы обратить внимание, это договоры между Киевской Русью и Византией, а именно договоры 911 и 944 годов.
Первый из них - Русско-Византийский договор 911 года (по тексту Радзивилловской летописи) определял установление дружественных отношений между Византией и Киевской Русью, порядок выкупа пленных, наказания за уголовные преступления, совершённые как византийскими, так и русскими купцами, а также ряд других положений, регулирующих уголовные и гражданские отношения между сторонами. В этом договоре можно найти сразу два термина, обозначавших преступное деяние, а именно - "проказа" и "сгрешение". Первое из них - "проказа" – используется в начале статьи 3, в контексте необходимости установления такого договора между Киевской Русью и Византией, в котором оговаривались бы возможные преступления и их правовые последствия. Второй термин - "сгрешение" - употребляется в конце этой же статьи - "будеть казнь, якоже явиться согрешение" - и устанавливает тем самым, что наказание должно быть соразмерно совершенному преступлению. Преступники же в данном договоре обозначаются как "злодеи", что следует из статьи 14, в которой оговариваются условия по выдаче преступников .
Уже через 33 года, в Русско-Византийском договоре 944 года (по тексту Лаврентьевской летописи) применялся другой термин, который обозначал преступное деяние, а именно - "бесчинство". Согласно ему, определялось, что русскому князю необходимо было устанавливать запрет совершать какие-либо преступления тем своим подданным, которые отправлялись на территорию Византии - "творять бещинья в селе ни в стране нашей" . В этом же документе применительно к беззаконию применяются словосочетание "творить криво" и термин "пакости". По поводу защиты потерпевшей кораблекрушение византийской ладьи в статье 8 использовался такой термиин, как "не приобидеть", то есть не совершать относительно данного судна, его пассажиров и груза каких-либо преступлений . В свою очередь по отношению к русским в статье 10, которая устанавливала запрет препятствовать жителям Корсуни ловить рыбу, употреблялся такой оборот как "да не творять им зла", который также подразумевал под собой недопустимость совершения преступлений.
Следующий законодательный памятник, который стоит проанализировать это, конечно, Русская Правда. Русская Правда, как главный источник правовых, социальных и экономических отношений Древнерусского государства, содержит нормы уголовного, наследственного, торгового и процессуального законодательства. С момента её появления, а также и её редакций, стал использоваться другой термин - "обида". Большинство ученых предлагает понимать данный термин как причинение физического и имущественного ущерба частному лицу со стороны другого частного лица.
Что касается Краткой Правды (по Академическому списку), то в ней термин "обида" используется, как правило, в санкции статьи применительно к взиманию денежного штрафа. Так, например, в статье 2, рассказывающей нам о причинении телесных повреждений, говорится следующее: "...то взятии ему за обиду 3 гривне" . В таком же контексте термин "обида" используется в статьях 4, 7, 11, 13, 15 Древнейшей Правды или Правды Ярослава, а также в статьях 29, 33, 34, 37 Домениального Устава или Правды Ярославичей.
В Русской Правде Пространной редакции термин "обида" встречается в статье 23, по которой уплата 12 гривен наступала за удар мечом находящемся в ножнах либо рукоятью , а также в статьях 34, 46, 47, 60, 61. В статье же 59 появляется уже знакомый из Русско-Византийского договора 944 года термин "приобидеть", который использовался в том же смысле, что и ранее.
Кроме того, в Пространной редакции в уставе Владимира Всеволодовича, наряду с термином “обида” начинают употребляться термины "сором" и "мука", которые тем не менее используются также в связи с взиманием денежного штрафа. К примеру, в статье 65, об ударе свободного мужа холопом, устанавливается - "любо ли взятии гривна кун за сором" . Однако ни "сором", ни "мука" не становятся универсальными для обозначения преступного деяния, в отличии от "обиды".
Кроме уже раскрытых терминов, однако, в статье 84 Пространной редакции Русской Правды используется и еще одно словосочетание, обозначающее отдельное преступление, а именно - "пакости дея", употреблявшееся по отношению к уничтожению (забою) чужого скота .
Церковные уставы и грамоты также активно использовали уже рассмотренные термины - "обидеть" или "приобидеть", и “покривить” (очевидно производный термин от словосочетания “творить криво”, известного со времен Русско-Византийского договора 944 года), используемые в данных законодательных документах по поводу неприкосновенности действия церковных судов. Так, устав Великого князя Всеволода гласит: "А кто приобидить суды церковныи, платити ему собою..." , а в Уставе князя Владимира 3-ей редакции звучит: "А кто покривить суд…" .
Кроме использования в законодательных актах, термин "обида" также активно употреблялся в данном временном промежутке и в сложившейся судебной практике. Как пример – в одной из берестяных грамот содержалось: "... Давыда обидя..." , а в грамоте N 474, написанной между 1387 и 1407 гг., использовалось следующее словосочетание: "...Жона моя забижона" .
Однако законодательными актами и судебной практикой применение терминов "обида" и "сором" не ограничивалось. Данные термины можно найти в текстах некоторых международно-правовых договоров Древней Руси. Примером такого договора может выступать Договор Новгорода с Готским берегом и с немецкими городами 1189 - 1199 годов. В нем, в статье 4, говориться следующее: "А оже мужа свяжють без вины, то 12 гривн за сором старых кун". В данном случае термин "сором" обозначает ни что иное, как уже последствие обиды в качестве морального вреда. Подтверждает это следующая статья, а именно 5, в которой говорится: "Оже ударять мужа оружеемь, любо колом, то 6 гривн за рану старые" , и очевидно, что речь идет уже о причинении физического вреда здоровью.
Стоит отметить, однако, что, например, Русская Правда Сокращенной редакции (по Толстовскому IV списку) вообще не содержит вышеперечисленных терминов, как, в принципе, и вообще каких-то других терминов, которые обозначали бы преступные деяния. Это же касается и Новгородской (не позднее 1470 года), и Псковской (1397 года) судных грамот.
Следующим термином, обозначавшим преступное, стал такой термин как "лихое дело", который первый раз употреблялся в Ярлыке татарского хана Бердибека, выданного митрополиту Алексею в ноябре 1357 года. Кроме того, в данном Ярлыке так же был использован термин "лжа", который обозначил целую совокупность преступлений против устоев христианской религии, совершаемых посредством устной речи.
Стоит заметить, что свое "официальное" закрепление термин "лихое дело" получает лишь в Судебнике 1497 г., в ст. 8 "О татбе" он выполняет обобщающую роль, завершая перечисление конкретных видов преступлений. "А доведуть на кого татбу, или разбой, или душегубство, или ябедничество, или иное какое лихое дело, и будет ведомый лихой, и боярину того велети казнити смертною казнью". "Лихой" в Судебнике 1497 г. употребляется в трех значениях: по отношению к преступному деянию - лихому делу, преступнику - лихому человеку и по отношению к имуществу лихого человека - "лихому статку".
Судебник 1550 г. применяет термин "лихое дело" для обозначения преступного уже более широко. Определения "лихой, лихое" применительно как к деянию, так и к деятелю, встречаются в ст. 52, 56, 59, 60, 61, 71. Однако в ст. 24 и 47 по-прежнему, для обозначения преступного, употребляется термин "обида".
Глава 57 Стоглава для обозначения преступного, совершенного в отношении епископа или причетника, или иных церковных людей, применяет термин "досада", т.е. обида в отношении данных лиц, и состоящая в появлении в церкви в алкогольной опьянении, громком смехе, разговорах в церкви, появлении в ней с животными и так далее, за которые "муками казнити", т.е., использовать телесные наказания.
Как отмечает В. А. Рогов, для периода Московской Руси очень трудно подобрать четкий термин для обозначения понятия преступного. Термин "лихое дело", по его мнению, обладает достаточной долей условности, так как характеризует не только само преступление, но и степень его тяжести, а также преступника-профессионала. На это указывает определенная уже выше многоаспектность применения определения "лихой". Кроме этого, например, в Крестоцеловальной записи губных старост середины XVI в. термин "лихое дело" трансформируется в еще одно, более широкое, понятие - "лихо", объединяющее в себе беззаконное и греховное.
Следует отметить, что дальше большое распространение получают также термины "разбойные дела", "татебные дела", "душегубные дела" как наиболее крупные видовые подразделения общеуголовных преступлений, а термин "лихое дело" (как объединяющее определение) в большей степени, применяется именно по отношению к ним.
Термин "воровство" входит в употребление в период правления царя Алексея Михайловича Романова, либо делается уточнение более частного характера - в эпоху действия Соборного Уложения 1649 г. "В литературе появление термина "воровское дело", - пишет В. А. Рогов, - связывалось с необходимостью определить в средневековье понятие преступного и дать его обобщение в практике XVI-XVII вв. Зачастую воровство определялось как родовое понятие для противоправных действий, но не ясно - для каких именно". По мнению же А. В. Лохвицкого, воровство означало очень важное нарушение, соответствующее, например, бунту, измене. "Иногда просто указывали, что в XVII в. воровство равнозначно преступному. Эти подходы не давали ответа на вопрос, почему в одних случаях понятие воровства для обозначения преступного использовалось, а в других - нет. Выход находили в простом утверждении, что средневековое право вообще не могло дать ясных понятий" .
И действительно, впериод с середины XVI в. и до середины XVII в., термин "воровство" не употреблялся как обобщающее понятие преступного, что подтверждается примером ст. 4 Судебника 1589 г., где термин "воровата" используется по отношению к фальсификации судебных документов, т.е. конкретному виду преступного деяния. А в первой половине XVII в. термин "воровство" применялся по отношению к такому преступному деянию, как фальшивомонетничество ("битье лживой монеты"), преступников данной категории именовали "денежные воры". В соответствии с царским Указом "О наказании фальшивомонетчиков" не позднее 10 февраля 1637 г., фальшивомонетчиков предписывалось клеймить. "А для улики вперед указали есмя у тех воров напятнати на щеках, розжегши, а в пятне написати "вор", чтоб такие воры впредь были знатны" . На правой щеке каленым железом выжигалась буква "В", на лбу буква "О", на левой щеке буква "Р".
1. Артикул воинский от 26.04.1715 г. // Законодательство периода становления абсолютизма. Т. 4 “Российское законодательство X-XX вв. В 9-ти т.” М., 1986. С. 512.
2. Договор Новгорода с Готским берегом и с немецкими городами 1189 - 1199 гг // Памятники права феодально-раздробленной Руси XII-XV вв. / Сост. А. А. Зимин, Памятники русского права. Вып. 2, Под ред. С. В. Юшкова. М., 1953. С. 125.
3. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., с изм. от 25.03.2004 г. // Российская газета. 1993. № 237., С. 48
4. Краткая Русская Правда (по Академическому списку половины XV в.) // Законодательство Древней Руси. “Российское законодательство X-XX веков. В 9-ти т. Т. 1” М., 1984. С. 432
5. Новоуказные статьи о татебных, разбойных и убивственных делах от 22 января 1669 г. // “Памятники права периода создания абсолютной монархии (Вторая половина XVII в.)” Памятники русского права. Вып. 7, Под ред. Л. В. Черепнина. М., 1963. С. 510.
6. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик // Свод законов СССР, т. 10, 1990 г., С 720.
7. Постановление Наркомюста РСФСР ОТ 12.12.1919 “Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919”, С. 590
8. Русская Правда. Пространная редакция // Законодательство Древней Руси. “Российское законодательство X-XX веков. В 9-ти т. Т. 1” М., 1984. С. 432
9. Русско-византийский договор 911 г. (по тексту Радзивилловской летописи) // “Памятники права Киевского государства. X-XII вв.” Сост. А. А. Зимин., Памятники русского права. Вып. 1. Под ред. С. В. Юшкова. М., 1952. С. 285
10. Русско-византийский договор 944 г. (по тексту Лаврентьевской летописи) // “Памятники права Киевского государства. X-XII вв.” Сост. А. А. Зимин., Памятники русского права. Вып. 1. Под ред. С. В. Юшкова. М., 1952. С. 285
11. Свод законов Российской империи, т. XV // Законодательство первой половины XIX века. Т. 6 “Российское законодательство X-XX вв.” М., 1988. С. 432.
12. Соборное Уложение 1649 г. // Акты Земских соборов. Т. 3 “Российское законодательство X-XX вв. В 9-ти т.” М., 1985. С. 512
13. Стоглавый собор 1551 г. // Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. Т. 2 “Российское законодательство X-XX веков. В 9-ти т.” М., 1985. С. 520.
14. Судебник 1497 г. // Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. Т. 2 “Российское законодательство X-XX веков. В 9-ти т.” М., 1985. С. 520.
15. Судебник 1550 г. // Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. Т. 2 “Российское законодательство X-XX веков. В 9-ти т.” М., 1985. С. 520.
16. Указ "О воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное" от 24 декабря 1714 г. // “Законодательство Петра I.” М., 1997. С. 880.
17. Указ "О наказании за измену и бунт смертию, а за меншие преступления кнутом и ссылкою в каторжную работу вечно или только на десять лет" от 14 января 1704 г. // “Законодательство Петра I.” М., 1997. С. 880.
18. Указ "О наказании фальшивомонетчиков" не позднее 10 февраля 1637 г. // Акты Земских соборов. Т. 3 “Российское законодательство X-XX вв. В 9-ти т.” М., 1985. С. 512
19. Указ "О суде и наказании за воровство разных родов и о заведении рабочих домов во всех губерниях" // Законодательство Екатерины II. Т. 2. М., 2001. С. 984.
20. Устав благочиния, или полицейский // Законодательство периода расцвета абсолютизма. Т. 5 “Российское законодательство X-XX вв.” В 9-ти т. М., 1987. С. 528.
21. Устав великого князя Всеволода “О церковных судех и о людех и о мерилах торговых” // Законодательство Древней Руси. “Российское законодательство X-XX веков. В 9-ти т. Т. 1” М., 1984. С. 432
22. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. С. 153
23. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года в редакции 1926 г. С. 185
24. Уголовный кодекс РСФСР 1960 года // Свод законов РСФСР, т. 8, 1988 г. С. 854
25. Антология мировой правовой мысли. Т. 4. Россия XI-XIX вв. М., 1999. С. 813
26. Алакаев А.А. К вопросу о понятии преступления // Тез. докл. на теоретической конф. аспирантов Института государства и права и Московского юридического института. М., 1991. С. 124
27. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов-н/Д., 1995. С. 800
28. Волков Г.И. Классовая природа преступления и советское уголовное право. – М., 1935. – С. 232
29. Горбуза А.Д., Сухарев Е.А. Структура преступления // Вопросы совершенствования уголовно-правовых норм на современном этапе. Свердловск, 1986. С. 23.
30. Дурманов Н.Д. Понятие преступления. – М., 1948. – С. 310.
31. Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник. Общая часть уголовного права. Киев, 1882. С. 892
32. Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М.: Изд-во МГУ, 1969. С. 232
33. Курс уголовного права в 5 томах. Т. I. М., Зерцало, 2002., С. 624
34. Лохвицкий А. В. Курс русского уголовного права. СПб., 1867. С. 712
35. Ляпунов Ю.И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права. – М., 1989. – С. 115
36. Марцев А.И. Вопросы совершенствования норм о преступлении // Советское государство и право. 1988. № 11. С. 209
37. Мальцев В.В. Введение в уголовное право. – Волгоград, 2000. С. 204
38. Макашвили В.Г. Вина и сознание противоправности: Методические материалы ВЮЗИ. Вып. 2. М., 1948. С. 280
39. Момотов В. В. Формирование русского средневекового права в IX-XIV вв. М., 2003. С. 416
40. Пионтковский А.А. Уголовное право РСФСР. Общая часть. – М., 1924. – С. 744
41. Пионтковский А.А. Марксизм и уголовное право. М., 1929. С. 461
42. Пионтковский А.А. Советское уголовное право (Общая часть) / Под ред В.М. Чхиквадзе – М.: Государственное издательство Юридической литературы, 1959. – С. 620
43. Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избранные лекции. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008. – С. 224
44. Ратинов А.Р. Психология личности преступника. Ценностно-нормативный подход // Личность преступника как объект психологического исследования. М., 1979. С. 437
45. Рогов В. А. История уголовного права террора и репрессий в Русском государстве XV-XVII вв. М., 1995. С. 288
46. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая, т. I. М., Наука, 1994. С. 823
47. Уголовное право. История юридической науки / Под ред. В. Н. Кудрявцева. – М., 1978. – С. 389.
48. Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. Отв. ред. В. Н. Кудрявцев, С. Г. Келина. М., Наука. 1987, С. 276
49. Чебышев – Дмитриев А. О преступном действии по русскому до – петровскому праву. – Казань: Типография императорского университета, 1862. – С. 246
50. Чельцов – Бутов М.А. Преступление и наказание в истории и в советском уголовном праве. - Харьков, 1925. – С. 597
51. Шавгулидзе Т.Г. Уголовно-правовое значение аффекта: автореф. дис. д-ра юрид. наук. М.: МГУ, 1974. С. 130
52. Юшков С. В. Устав князя Владимира // Труды выдающихся юристов. М., 1989. С. 163
53. Янин В. Л. Я послал тебе бересту... М., 1975. С. 65
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям